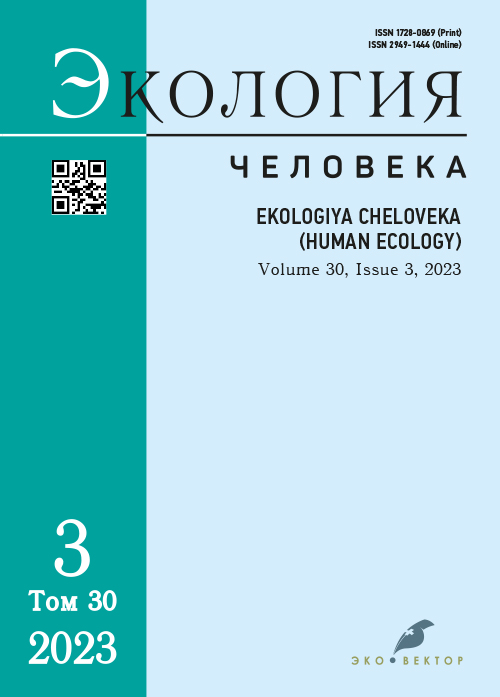The role of anthropogenic dermatotoxicants in the etiology of acne in adolescents
- Authors: Pilnik E.N.1, Deryagina L.E.2, Reinyuk V.L.1, Pyatibrat A.O.3
-
Affiliations:
- Golikov Research Center of Toxicology
- V.Ya. Kikot Moscow University
- Saint-Petersburg State Pediatric Medical University
- Issue: Vol 30, No 3 (2023)
- Pages: 199-211
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 11.11.2022
- Accepted: 04.04.2023
- Published: 25.07.2023
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/112524
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco112524
- ID: 112524
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: As urbanization continues to increase, so do the detrimental impacts of anthropogenic toxic substances on human health.
AIM: to study the role of toxic elements in the etiology of acne in adolescents.
MATERIALS AND METHODS: In total, 595 adolescents from different settings of the Moscow region participated in a cross-sectional study. Of them, 301 had acne. The reference group consisted of 294 healthy and acne-free children. Spectrometric, cytogenetic, biochemical and immunological research methods were used in the study. Concentrations of essential and toxic trace elements in hair samples were estimated. A micronuclear test was performed in buccal epithelial cells. The testosterone level and the immunoregulatory index were assessed. Discriminant analysis was used for development of the algorithm to predict acne in adolescents.
RESULTS: Elevated concentrations of lead, cadmium and mercury were observed in 23% of adolescents with acne, respectively, while in the reference group the corresponding proportions were 10, 5 and 8% all p <0.01). Decreased concentration of selenium and zinc were found in 22 and 16% of adolescents, respectively, compared to the 6% in the reference group (p <0.01). Micronucleus test revealed signs of genetic instability in 42% of adolescents with acne vs 19% in the acne-free group. Positive correlations were observed between genotoxic disorders and hear concentrations of lead and mercury.
CONCLUSIONS: Low concentrations of selenium and zinc combined with high concentrations of mercury and lead in hair samples as well as with increased number of micronuclei in the buccal epithelium suggest predominantly toxic etiology of acne. Adolescents with a predominantly hormonal etiology of acne were characterized by an increase in testosterone levels and a decrease in the immunoregulatory index. Discriminant analysis allows classification of acne by predominant etiology.
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
В настоящее время в городах проживает 75% населения России, что существенно увеличивает антропогенное загрязнение атмосферы выбросами промышленных предприятий и выхлопами автотранспорта. К основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах относят стойкие органические загрязнители, полициклические ароматические углеводороды, тяжёлые металлы и их соли [1–3]. Тяжёлые металлы — распространённые антропогенные экотоксиканты, обладающие кумулятивным эффектом. В городах с широким распространением тяжёлых металлов их поступление в организм обеспечивается преимущественно ингаляционным путём. Кожные покровы остро реагируют как на поступление в организм различных ксенобиотиков, так и на их продукты метаболизма, в том числе токсичные металлы, поэтому покровные органы считаются одним из индикаторов экологического благополучия окружающей среды [4–6].
В связи с перестройкой гуморальной регуляции при половом созревании у подростков наиболее остро проявляются кожные заболевания под влиянием токсичных металлов. Превалирование поступления над выведением металлополлютантов приводит к их аккумуляции в организме, вызывая при этом хроническую интоксикацию [7]. Самые токсичные металлополлютанты, среди которых наиболее часто встречаются кадмий, свинец и ртуть, не участвуют в нормальном метаболизме и обладают нейротоксическим, дерматотоксическим и генотоксическим эффектом [8–10]. Максимально информативным методом оценки уровня накопления металлов в организме является определение их содержания в волосах [11, 12].
В связи с формированием регуляторных функций и нейрогуморальными перестройками растущего организма дети и подростки наиболее чувствительны к воздействию токсикантов, при этом кожные покровы максимально остро реагируют на интоксикацию организма различными ксенобиотиками и необычными продуктами метаболизма, в том числе тяжёлыми металлами, поэтому покровные органы считаются индикатором экологического благополучия окружающей среды [6]. Учитывая, что угревая болезнь — самая распространённая патология кожи у подростков, оценка вовлечения в её патогенез антропогенных экотоксикантов безусловно актуальна.
Цель. Определить критерии преимущественно токсикологического механизма формирования угревой болезни.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для оценки влияния антропогенных экодерматотоксикантов на формирование угревой болезни у подростков проведён сравнительный анализ элементного состава волос 595 детей, проживающих в различных районах Подмосковья. Исследование выполнено методом поперечных срезов. Группы подростков сформированы из здоровых детей, не принимавших продолжительно лекарственных препаратов минимум за 3 мес до исследования (табл. 1).
Таблица 1. Распределение обследуемых подростков по месту жительства / Table 1. Distribution of the study participants by place of residence
Район District | Угревая болезнь | Acne | Контрольная группа | Acne-free | ||||||
Мальчики, лет Boys, years | Девочки, лет Girls, years | Мальчики, лет Boys, years | Девочки, лет Girls, years | |||||
13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | |
Одинцовский | Odintsovo district, n=104/91 | 24 | 28 | 21 | 31 | 21 | 22 | 24 | 24 |
Подольский | Podolsk district, n=97/101 | 26 | 21 | 24 | 26 | 25 | 26 | 28 | 22 |
Химки | Khimky district, n=100/102 | 21 | 26 | 26 | 27 | 23 | 25 | 22 | 32 |
Анализ проводили с участием подростков — жителей трёх подмосковных районов: Химкинского, Подольского и Одинцовского. Обследуемые подростки из Химкинского района в основном были представлены жителями Новокуркино и жилого комплекса Юбилейный. Основные загрязнения атмосферы этого района происходят за счёт цементной пыли активно ведущегося строительства, оксида углерода, паров растворителей, токсичных продуктов полного и неполного сгорания топлива автомобилей, двигающихся по расположенной рядом кольцевой автодороге. Кроме того, на загрязнение атмосферы оказывает влияние полигон твёрдых бытовых отходов «Долгопрудненский».
В Подольском районе обследуемые в основном были представлены жителями наукограда Троицк. К источникам экотоксикантов в этом районе, загрязняющим атмосферный воздух, относятся выбросы вредных веществ от предприятий и автотранспорта, а также полигоны птицефабрик.
Наиболее благополучным в экологическом аспекте был Одинцовский район, где большинство обследуемых подростков в основном проживают в городе Власихе. Источники экотоксикантов в данном районе представлены по большей части автотранспортом. В то же время все рассматриваемые районы отличаются более благополучной экологической обстановкой, чем спальные и промышленные районы Москвы.
Степень тяжести акне оценивали с помощью дерматологического индекса акне (ДИА), который подсчитывали по сумме баллов, отражающих число воспалительных и невоспалительных высыпных элементов: до 5 — лёгкая степень, от 6 до 10 — средняя и от 10 до 15 — тяжёлая степень акне.
Отбор и обработку проб волос осуществляли в соответствии с методическими указаниями Роспотребнадзора [13]. Химические элементы в образцах определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе Shimadzu (Япония). Из исследования исключали подростков, страдающих себореей и применяющих цинк- и селенсодержащие шампуни.
Для оценки генотоксических эффектов у каждого обследованного подростка анализировали по 1000 клеток буккального эпителия. Изготовление микропрепаратов осуществляли по общепринятой методике, модифицированной С.Б. Мельновым [5], на препаратах учитывали отношение количества микроядер к общему числу ядросодержащих клеток (в промилле, ‰). Окраску материала проводили водным раствором азур-эозина по Романовскому–Гимзе (1:5).
Исследование иммунного и гуморального статусов проводили в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Анализируемые карточки представлены поликлиническими отделениями и школьными медицинскими кабинетами некоторых учреждений Московской области. Забор крови выполняли в районной поликлинике по направлению врача-дерматолога или участкового педиатра. Концентрацию тестостерона в венозной крови определяли с помощью иммуноферментного анализа, используя наборы реагентов (ООО «Алкор Био», Россия). Показатели клеточного иммунитета (CD3, CD4, CD8, CD16, CD72, CD19) определяли иммунофлуоресцентным методом с помощью проточного цитофлуориметра, далее рассчитывали иммунорегуляторный индекс (ИРИ).
Работа одобрена независимым этическим комитетом, созданным на базе Научно-клинического центра токсикологии имени академика С.Н. Голикова ФМБА России в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием людей» (2013). Информированное согласие получено от всех пациентов в возрасте свыше 15 лет и от родителей пациентов, не достигших 15-летнего возраста, согласно Федеральному закону «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (2011).
Статистический анализ результатов выполнен с использованием пакета прикладных лицензионных программ Microsoft Officе 2010, Statistica for Windows 10.0, 2011 (StatSoft Inc., США). По всем исследуемым показателям рассчитана нормальность распределения их значений в выборочных совокупностях с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Полученные результаты указывали на нормальное распределение исследуемых показателей, что послужило основанием использования параметрических методов статистики. Результаты представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения М±SD. При сравнении групп использовали t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Различия считали статистически значимыми при р <0,05. Для выявления взаимосвязи между исследуемыми параметрами применяли корреляционный анализ Пирсона.
Полученные взаимосвязи послужили основанием разработки алгоритма, позволяющего дифференцировать различные механизмы формирования угревой болезни. Для достижения этой цели использовали дискриминантный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
За счёт способности волос депонировать химические элементы анализ их микроэлементного состава используют в качестве индикатора антропогенных загрязнений территорий тяжёлыми металлами и другими токсичными элементами. Результаты анализа микроэлементного состава волос подростков свидетельствуют, что в большинстве наблюдений средние величины концентрации жизненно необходимых химических элементов не выходили за пределы референсных значений и не имели значимых различий в зависимости от района проживания и наличия угревой болезни (табл. 2).
Таблица 2. Концентрация микроэлементов в пробах волос подростков Подмосковья, мкг/г (M±SD) / Table 2. Hair concentrations of microelements in adolescents in the Moscow region, mkg/g (M±SD)
Микроэлементы | Microelements | Показатель | Референсные значения | ||
Мальчики | Boys | Девочки | Girls | Мальчики | Boys | Девочки | Girls | |
Эссенциальные микроэлементы | Essential microelements | ||||
Кальций (Ca) | 390,1±110,3 | 436,8±112,5 | 266–503 | 341–702 |
Калий (K) | 362,78±98,60 | 279,5±81,6 | 50–660 | |
Магний (Mg) | 30,5±18,4 | 40,6±9,8 | 16–36 | 22–54 |
Фосфор (P) | 142,4±118,4 | 147,75±42,60 | 83–165 | |
Стронций (Sr) | 2,9±1,3 | 3,1±1,5 | 0,5–5,0 | |
Медь (Cu) | 11,2±1,2 | 10,1±1,4 | 8–15 | |
Железо (Fe) | 21,65±5,40 | 24,0±8,3 | 10–25 | |
Марганец (Mn) | 0,5±0,4 | 0,5±0,3 | 0,1–1,0 | |
Кобальт (Co) | 0,1±0,1 | 0,1±0,1 | 0,01–0,50 | |
Хром (Cr) | 1,1±0,4 | 0,9±0,2 | 0,1–2,0 | |
Токсические микроэлементы | Toxic microelements | ||||
Алюминий (Al) | 9,2±5,9 | 8,2±6,1 | ≤10,0 | |
Мышьяк (As) | 0,12±0,07 | 0,15±0,08 | ≤0,10 | |
Никель (Ni) | 1,7±0,6 | 1,3±0,7 | ≤2,0 | |
В то же время обращают на себя внимание низкие показатели цинка и селена (табл. 3). У большинства подростков Химкинского и Подольского районов, страдающих угревой болезнью, концентрации селена и цинка были ниже референсных значений и статистически значимо ниже значений у подростков, проживающих в аналогичных районах контрольной группы, а также в отношении жителей Одинцовского района.
Таблица 3. Концентрация химических элементов в пробах волос подростков, мкг/г (M±SD) / Table 3. Hair concentrations of chemical elements in adolescents in the Moscow region, mkg/g (M±SD)
Химические элементы Chemical elements | Угревая болезнь | Acne | Контрольная группа | Acne-free | ||||
Одинцовский район Odintsovo district | Подольский район Podolsk district | Химкинский район Khimky district | Одинцовский район Odintsovo district | Подольский район Podolsk district | Химкинский район Khimky district | |
Мальчики, эссенциальные химические элементы / Boys, essential elements | ||||||
Селен (Se) | 0,7±0,2* | 0,4±0,1*# | 0,5±0,1* | 1,3±0,2 | 0,8±0,3# | 1,1±0,3 |
Цинк (Zn) | 156,4±15,3* | 122,4±12,4*# | 128,6±10,2# | 172,5±16,4 | 147,2±13,4# | 139,3±19,7# |
Мальчики, токсические химические элементы / Boys, toxic elements | ||||||
Свинец (Pb) | 2,1±0,4 | 3,8±1,2# | 5,3±1,5*# | 1,8±0,6 | 3,4±1,3# | 4,2±1,5# |
Кадмий (Cd) | 0,19±0,05* | 0,32±0,09*# | 0,37±0,12*# | 0,12±0,06 | 0,16±0,07 | 0,29±0,11# |
Ртуть (Hg) | 2,1±0,3* | 4,2±0,5#* | 3,9±0,4*# | 1,2±0,8 | 3,4±1,2# | 3,1±0,7# |
Девочки, эссенциальные химические элементы / Girls, essential elements | ||||||
Селен (Se) | 0,9±0,2* | 0,3±0,1*# | 0,4±0,1*# | 1,4±0,1 | 1,1±0,2 | 1,0±0,2 |
Цинк (Zn) | 134,0±6,1* | 94,1±12,6*# | 112,8±17,2*# | 197,5±18,1 | 164,3±15,2# | 151,3±14,6# |
Девочки, токсические химические элементы / Girls, toxic elements | ||||||
Свинец (Pb) | 1,8±0,5* | 3,4±1,1*# | 4,7±1,4*# | 1,1±0,4 | 1,9±0,8# | 3,1±1,3# |
Кадмий (Cd) | 0,14±0,07 | 0,36±0,03#* | 0,39±0,08# | 0,11±0,03 | 0,25±0,06# | 0,31±0,09# |
Ртуть (Hg) | 2,4±0,5* | 3,2±1,2* | 3,1±0,7* | 1,4±0,4 | 2,7±0,6 | 2,5±0,8 |
* различия относительно контрольной группы аналогичного района, р <0,01; # относительно Одинцовского района в аналогичной группе; р <0,01.
* compared to the acne-free group in the same district, р <0.01; # compared to the Odintsovo district in the corresponding group; p <0.01.
Результаты анализа микроэлементного состава волос у девочек-подростков свидетельствуют о не выходящих за пределы референсных значений средних величинах концентраций эссенциальных химических элементов в пробах волос, также эти показатели статистически не отличались в зависимости от района проживания и наличия угревой болезни. При этом у девочек, страдающих угревой болезнью, особенно из Химкинского и Подольского районов, отмечались низкие концентрации цинка и селена (ниже референсных значений, а также статистически значимо ниже относительно подростков контрольной группы, проживающих в аналогичных районах, и в отношении жителей Одинцовского района).
Анализ содержания токсичных химических элементов в пробах волос обследованных мальчиков свидетельствует, что концентрации большей части анализируемых элементов находились в границах референсных значений. Однако ряд микроэлементов демонстрировали статистически значимые различия концентраций в пробах волос подростков в зависимости от района проживания.
Тем не менее средние величины концентрации свинца, ртути и кадмия превышали референсные значения у мальчиков-подростков — жителей Химкинского и Подольского районов. Концентрации этих элементов были также статистически значимо выше относительно обеих аналогичных групп мальчиков, проживающих в Одинцовском районе, и относительно контрольных групп из аналогичных районов.
Обследованные девочки характеризовались повышением концентрации ряда токсичных химических элементов в пробах волос. Средние величины показателей концентрации свинца, ртути и кадмия были выше референсных значений в группах, проживающих в Подольском и Химкинском районах: как у страдающих угревой болезнью, так и у практических здоровых школьниц. Статистически более высокие концентрации этих химических элементов определялись у девочек-подростков и относительно аналогичных групп жителей Одинцовского района, а у страдающих угревой болезнью эти показатели были статистически значимо выше, чем в контрольных группах аналогичных районов.
Результаты анализа микроэлементного статуса подростков из Подмосковья, страдающих и не страдающих угревой болезнью, свидетельствуют, что формирование угревой болезни связано с влиянием экотоксикантов, которое определяется повышением концентрации свинца, ртути, кадмия и снижением — селена и цинка.
Оценку скрытой генетической нестабильности проводили с помощью микроядерного теста, основанного на подсчёте микроядер, образующихся из хромосомных фрагментов или целых хромосом, которые не включились в состав ядра в ходе митоза из-за отсутствия центромеры или повреждения волокон веретена деления или самой центромеры [5]. Отношение количества микроядер к общему числу ядросодержащих клеток выражали в промилле (‰), данные микроядерного теста представлены в табл. 4. Из 595 обследованных школьников признаки генетической нестабильности определялись у 128 подростков, страдающих угревой болезнью, и у 55 подростков контрольной группы, что составило 42 и 19% соответственно. Стоит отметить, что признаки генетической нестабильности в 2–3 чаще встречались у подростков Химкинского и Подольского районов, менее благоприятных в экологическом аспекте, чем посёлок Власиха Одинцовского района.
Таблица 4. Показатели микроядерного теста клеток буккального эпителия у подростков, проживающих в различных районах Подмосковья, ‰ (M±SD) / Table 4. Results of the micronuclear test of the buccal epithelial cells in adolescents in the Moscow region, ‰ (M±SD)
Группы | Groups | Возраст, лет Age, years | Район | District | |||
Одинцовский Odintsovo | Подольский Podolsk | Химкинский Khimky | |||
Угревая болезнь Acne | Мальчики | Boys | 13–14 | 28,7±8,7* | 48,4±9,3*# | 52,1±11,5*# |
15–17 | 32,5±6,2* | 51,7±8,4*# | 63,8±12,3*# | ||
Девочки | Girls | 13–14 | 27,4±9,6* | 52,3±8,4*# | 57,8±14,2*# | |
15–17 | 28,3±7,1* | 56,5±12,5*# | 69,2±16,1*# | ||
Контрольная группа Acne-free | Мальчики | Boys | 13–14 | 15,4±8,5 | 33,5±7,6# | 29,2±11,5# |
15–17 | 19,7±6,9 | 34,2±8,4# | 31,4±7,8# | ||
Девочки | Girls | 13–14 | 18,6±7,2 | 33,8±9,8# | 32,6±11,3# | |
15–17 | 21,2±9,2 | 36,1±11,6# | 34,7±7,9# | ||
* различия относительно контрольной группы аналогичного района; # относительно Одинцовского района в аналогичной группе; р <0,01.
* compared to the acne-free group in the same district, р <0.01; # compared to the Odintsovo district in the corresponding group; р <0.01.
Результаты анализа количества клеток с микроядрами на 1000 клеток буккального эпителия свидетельствуют, что все проживающие в Подольском и Химкинском районах подростки независимо от пола, возраста и наличия угревой болезни характеризовались статистически значимо более высоким количеством клеток с микроядрами. Все подростки, страдающие акне, демонстрировали статистически значимо более высокое количество клеток с микроядрами в буккальном эпителии. Представленные данные демонстрируют более частые проявления генетической нестабильности в Подольском и Химкинском районах, а также у подростков, страдающих угревой болезнью. За признак генетической нестабильности принимали увеличение количества клеток с микроядрами более 30 на тысячу клеток буккального эпителия [5].
Подростки, страдающие угревой болезнью, в большей степени, чем контрольная группа, демонстрировали признаки генетической нестабильности: в Одинцовском районе — 29,1 и 21,3% мальчиков разных возрастных групп, 24,8 и 32,2% девочек. В Химкинском и Подольском районах подростки с признаками кариопатологии среди больных акне встречались чаще, чем в Одинцовском, они составляли приблизительно половину во всех половых и возрастных подгруппах подростков, страдающих угревой болезнью.
На втором этапе исследования по результатам микроядерного теста подростки, страдающие угревой болезнью, были разделены на 2 группы: 1-я — подростки с признаками генетической нестабильности в клетках буккального эпителия, у которых наблюдались генотоксические эффекты; 2-я — подростки без выраженных признаков генетической нестабильности (табл. 5). Распределение подростков этих двух групп по степени тяжести угревой болезни с помощью ДИА представлено в табл. 6. Анализ данных ДИА свидетельствует о более тяжёлом течении акне у подростков с более высокими показателями кариопатологии.
Таблица 5. Количество подростков с признаками генетической нестабильности и без кариопатологии, n / Table 5. Number of adolescents with signs of genetic instability and without cariopathy, n
Пол | Gender | Группа, возраст, лет | Group, age, gender | |||||||
Генотоксические эффекты | Genotoxic effects | Без генотоксических эффектов | No genotoxic effects | |||||||
Угревая болезнь Acne (n=128) | Контрольная группа Acne-free (n=55) | Угревая болезнь Acne (n=172) | Контрольная группа Acne-free (n=238) | |||||
13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | |
Мальчики | Boys | 32 | 28 | 10 | 12 | 39 | 47 | 59 | 61 |
Девочки | Girls | 31 | 38 | 16 | 17 | 40 | 46 | 57 | 61 |
Таблица 6. Распределение подростков по степень тяжести угревой болезни с помощью дерматологического индекса акне, % / Table 6. Distribution of adolescents across the severity of acne, %
Пол Gender | Лёгкая степень | Light | Средняя степень | Moderate | Тяжёлая степень | Severe | |||||||||
Генотоксические эффекты Genotoxic effects | Без генотоксических эффектов No genotoxic effects | Генотоксические эффекты Genotoxic effects | Без генотоксических эффектов No genotoxic effects | Генотоксические эффекты Genotoxic effects | Без генотоксических эффектов No genotoxic effects | |||||||
13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | 13–14 | 15–17 | |
Мальчики | Boys | 21 | 18 | 35 | 25 | 55 | 65 | 53 | 67 | 24 | 17 | 12 | 7 |
Девочки | Girls | 14 | 24 | 22 | 38 | 65 | 59 | 68 | 51 | 21 | 17 | 10 | 11 |
Далее анализировали показатели микроэлементов, микроядерного теста, тестостерона и ИРИ в зависимости от выраженности кариопатологии у мальчиков (табл. 7). Количество микроядер у мальчиков в группах с признаками генетической нестабильности оказалось почти в два раза выше, чем у подростков с угревой болезнью без кариопатологии. У мальчиков, страдающих угревой болезнью с признаками генетической нестабильности, концентрации свинца и ртути были в два раза выше, а концентрация селена — на 35% ниже, чем у мальчиков с угревой болезнью без кариопатологии. Показатели тестостерона также были статистически значимо (почти в два раза) выше в группе без признаков генотоксичности. При этом показатели ИРИ были статистически значимо выше в группе мальчиков с признаками генотоксичности (см. табл. 7).
Таблица 7. Показатели микроэлементов, микроядерного теста, тестостерона и иммунорегуляторного индекса в зависимости от кариопатологии у подростков, страдающих угревой болезнью, мкг/г (M± SD) / Table 7. Concentrations of microelements, results of micronuclear test, testosterone concentrations and immunoregulatory index by cariopathy groups among adolescents with acne, mkg/kg (M± SD)
Показатели / Variables | Генотоксические эффекты Genotoxic effects | Без генотоксических эффектов No genotoxic effects | t-значение t-value |
Среднее / Mean | Среднее / Mean | ||
Мальчики | Boys | |||
Селен, мкг/г | Selenium, µg/g | 0,45±0,11* | 0,69±0,15 | –10,7 |
Цинк, мкг/г | Zincum, µg/g | 127,82±10,22* | 154,11±7,88 | –16,8 |
Свинец, мкг/г | Plumbum, µg/g | 4,59±1,34* | 2,07±0,25 | 14,3 |
Ртуть, мкг/г | Hydrargyrum, µg/g | 4,22±0,46* | 2,10±,19 | 33,4 |
Микроядра | Micronuclei, ‰ | 52,89±12,61* | 30,01±6,33 | 13,0 |
Тестостерон, нмоль/л | Testosterone, nmol/l | 8,87±1,51* | 13,88±4,0 | 9,3 |
Иммунорегуляторный индекс | Immunoregulatory index | 1,50±0,07* | 12,95±0,84 | –125,7 |
Девочки | Girls | |||
Селен, мкг/г | Selenium, µg/g | 0,32±0,11* | 0,90±0,13 | –28,9 |
Цинк, мкг/г | Zincum, µg/g | 112,11±17,08* | 130,90±7,98 | –8,4 |
Свинец, мкг/г | Plumbum, µg/g | 4,28±1,14* | 1,79±0,34 | 17,64 |
Ртуть, мкг/г | Hydrargyrum, µg/g | 3,90±0,52* | 2,45±0,36 | 6,1 |
Микроядра | Micronuclei, ‰ | 58,27±10,36* | 30,82±7,87 | 18,3 |
Тестостерон, нмоль/л л | Testosterone, nmol/l | 9,28±0,92* | 13,91±3,49 | 10,7 |
Иммунорегуляторный индекс | Immunoregulatory index | 1,50±0,07* | 1,30±0,08 | 15,5 |
* различия относительно группы без генотоксических эффектов, р <0,0001.
* compared to the group with no genotoxic effects, р <0.0001.
Похожие изменения наблюдались и среди девочек: отмечено в два раза большее количество микроядер в группе с признаками генетической нестабильности, чем у подростков с угревой болезнью без кариопатологии. Показатели микроэлементов, микроядерного теста, тестостерона и ИРИ в зависимости от кариопатологии у девочек представлены в табл. 8. В группе девочек с признаками генетической нестабильности концентрации свинца были в два раза, а ртути — в полтора раза выше. При этом концентрация селена в пробах волос у этих девочек была в 3 раза меньше. У девочек с признаками генетической нестабильности концентрация тестостерона в крови была значимо ниже, чем в группе без признаков генотоксичности. В то же время ИРИ был статистически значимо выше в группе девочек с признаками генотоксичности (см. табл. 7).
Таблица 8. Корреляционные взаимосвязи показателей микроядерного теста, концентрации микроэлементов и иммунного статуса подростков, страдающих угревой болезнью / Table 8. Correlations between micronuclei test results, hair microelements concentrations and immune status of adolescents with acne
Показатели Variables | Селен Se | Цинк Zn | Свинец Pb | Ртуть Hg | Микроядра Micronuclei | Тестостерон Testoateron | ИРИ IRI |
Девочки | Girls | |||||||
Селен (Se) | 1,0 | 0,54 | –0,74 | –0,39 | –0,78 | –0,57 | –0,68 |
Цинк (Zn) | 0,54 | 1,0 | –0,42 | –0,25 | –0,52 | –0,33 | –0,38 |
Свинец (Pb) | –0,74 | –0,42 | 1,0 | 0,41 | 0,69 | 0,42 | 0,62 |
Ртуть (Hg) | –0,39 | –0,25 | 0,41 | 1,0 | 0,33 | 0,27 | 0,26 |
Микроядра | Micronuclei | –0,78 | –0,52 | 0,69 | 0,33 | 1,0 | 0,39 | 0,63 |
Тестостерон | Testosterone | –0,57 | –0,33 | 0,42 | 0,27 | 0,39 | 1,0 | 0,38 |
Иммунорегуляторный индекс Immunoregulatory index | –0,68 | –0,38 | 0,62 | 0,26 | 0,63 | 0,38 | 1,0 |
Мальчики | Boys | |||||||
Селен (Se) | 1,0 | 0,52 | –0,47 | –0,62 | –0,51 | 0,49 | 0,65 |
Цинк (Zn) | 0,52 | 1,0 | –0,56 | –0,77 | –0,54 | 0,61 | 0,80 |
Свинец (Pb) | –0,47 | –0,56 | 1,0 | 0,74 | 0,66 | –0,56 | –0,76 |
Ртуть (Hg) | –0,62 | –0,77 | 0,74 | 1,0 | 0,71 | –0,70 | –0,93 |
Микроядра | Micronuclei | –0,51 | –0,54 | 0,66 | 0,71 | 1,0 | –0,53 | –0,73 |
Тестостерон | Testosterone | 0,49 | 0,61 | –0,56 | –0,70 | –0,53 | 1,0 | 0,73 |
Иммунорегуляторный индекс Immunoregulatory index | 0,65 | 0,80 | –0,76 | –0,93 | –0,73 | 0,73 | 1,0 |
Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты корреляции, р <0,05.
Note: statistically significant correlations are in bold, p <0.05.
Анализ концентрации микроэлементов в пробах волос, результатов микроядерного теста, показателей гуморальной регуляции гонадотропных гормонов и иммунного статуса у подростков, страдающих угревой болезнью, показал, что из всех показателей, используемых в исследовании, для определения характеристик механизмов формирования угревой болезни можно использовать следующие:
- концентрацию жизненно необходимых микроэлементов селена (Se) и цинка (Zn);
- концентрацию токсических микроэлементов свинца (Pb) и ртути (Hg);
- количество микроядер в клетках буккального эпителия;
- концентрацию тестостерона;
- значение ИРИ.
С помощью корреляционного анализа отобраны (см. табл. 8), а с помощью дискриминантного (лямбда Уилкса) — уточнены наиболее информативные показатели (табл. 9).
Таблица 9. Значения коэффициентов дискриминантной функции для распознавания группы 1 (токсический механизм) и группы 2 (гормональный механизм) у девочек и мальчиков / Table 9. Discriminant function coefficients for differentiation between predominantly toxic acne and predominantly hormonal acne in boys and girls
Показатель | Variable | Значение коэффициентов | Coefficients | ||
G_1:1 | G_2:2 | ||
Девочки / Girls | |||
p | 0,767 | 0,754 | |
X1 | Селен (Se), мкг/г | –1,46 | 38,35 |
X2 | Цинк (Zn), мкг/г | 0,54 | 0,61 |
X3 | Свинец (Pb), мкг/г | 3,88 | 0,59 |
X4 | Ртуть (Hg), мкг/г | 19,08 | 16,14 |
X5 | Микроядра | Micronuclei, ‰ | 0,81 | 0,58 |
X6 | Тестостерон, нмоль/л | Testosterone, nmol/l | 1,80 | 1,14 |
X7 | Иммунорегуляторный индекс | Immunoregulatory index | 235,45 | 193,21 |
Константа | Intercept | –280,04 | –218,71 | |
Мальчики | Boys | |||
p | 0,785 | 0,812 | |
X1 | Селен (Se), мкг/г | 46,02 | 71,36 |
X2 | Цинк (Zn), мкг/г | 1,73 | 2,15 |
X3 | Свинец (Pb), мкг/г | 0,59 | –1,29 |
X4 | Ртуть (Hg), мкг/г | 29,04 | 20,21 |
X5 | Микроядра | Micronuclei, ‰ | 0,24 | 0,15 |
X6 | Тестостерон, нмоль/л | Testosterone, nmol/l | 2,64 | 2,74 |
X7 | Иммунорегуляторный индекс | Immunoregulatory index | 8,74 | 47,14 |
Константа | Intercept | –215,849 | –531,48 | |
Данные, полученные у наблюдаемых мальчиков с помощью корреляционного анализа показателей микроэлементов, количества микроядер, уровня тестостерона и ИРИ, свидетельствуют о сильных положительных корреляционных связях между количеством микроядер и концентрацией свинца в пробе волос, а также ИРИ. Сильные отрицательные связи определялись между концентрацией селена, свинца и количеством микроядер. Также сильная отрицательная корреляционная связь определялась между ИРИ и концентрацией селена.
Для девочек характерно наличие сильных положительных корреляционных связей между концентрацией в пробах волос ртути, свинца и количеством микроядер, а также между ИРИ, концентрациями цинка, селена и уровнем тестостерона. Сильные отрицательные корреляционные связи наблюдались между концентрациями ртути и цинка, свинца, а также уровнем тестостерона (см. табл. 8).
С помощью корреляционного анализа отобраны показатели, демонстрирующие наиболее сильные корреляционные связи. Полученные взаимосвязи послужили основанием разработки алгоритма, позволяющего дифференцировать различные механизмы формирования угревой болезни. Для достижения этой цели использовали дискриминантный анализ.
Результаты исследования, в частности анализ корреляций между различными механизмами формирования угревой болезни и некоторыми показателями токсикологического, цитогенетического, гормонального и иммунного статуса, позволили подойти к решению задачи формализации процедуры дифференциации изучаемых групп по механизмам формирования угревой болезни с использованием комплекса высокоинформативных признаков.
Значения коэффициентов дискриминантной функции для девочек, страдающих угревой болезнью, представлены в табл. 9. В варианте расчёта дискриминантной функции информативность оказалась достаточно высокой — 75% (p <0,001). В данном случае:
F(tox)=–1,46X1+0,54X2+3,88X3+19,08X4+ +0,81X5+1,8X6+235,45X7–280,04 (для группы 1);
F(horm)=38,35X1+0,61X2+0,59X3+16,14X4+ +0,58X5+1,14X6+193,21X7–218,71 (для группы 2),
где F(tox) — преимущественно токсикологический механизм акне, F(horm) — преимущественно гуморальный механизм акне, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 — переменные дискриминантной функции.
При F(tox) > F(horm) механизм формирования угревой болезни преимущественно токсикологический. Разработанные решающие правила дифференциации групп с использованием биохимических, иммунологических и цитогенетических методик обеспечивают точность прогноза более 75%.
Значения коэффициентов дискриминантной функции для мальчиков, страдающих угревой болезнью, представлены в табл. 9. В варианте расчёта дискриминантной функции информативность оказалась также достаточно высокой — более 75% (p <0,001). В данном случае:
F(tox)=46,02X1+1,73X2+0,59X3+29,04X4+ +0,24X5+2,64X6+8,74X7–215,84 (для группы 1);
F(horm)=71,36X1+2,15X2-1,29X3+20,21X4+ +0,15X5+2,74X6+47,14X7–531,48 (для группы 2).
При F(tox) > F(horm) можно отнести обследуемого к группе с преимущественно токсикологическими механизмами формирования угревой болезни.
ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа данных ДИА свидетельствуют, что подростки с признаками генетической нестабильности страдали угревой болезнью в тяжёлой форме в два раза чаще, чем подростки без признаков генотоксичности.
Таким образом, у определённой части подростков, страдающих угревой болезнью, пусковые механизмы её формирования связаны с повышением концентраций ртути, свинца, кадмия и снижением — селена и цинка. При этом течение угревой болезни более тяжёлое у подростков с выраженной генетической нестабильностью, определяемой повышением количества микроядер в буккальном эпителии.
Результаты исследования свидетельствуют о наличии по крайней мере двух различных механизмов формирования угревой болезни. Первый, классический, механизм обусловлен превалированием влияния нарушений гуморальной регуляции гонадотропных гормонов в патогенезе акне, второй — преобладанием в патогенезе влияния дерматотоксичных металлополютантов, поступающих в организм подростка в основном за счёт загрязнения атмосферного воздуха промышленными и транспортными выбросами.
Клиническая картина угревой болезни не всегда позволяет легко дифференцировать превалирующие механизмы формирования и течения заболевания, определение которых позволит использовать более эффективную патогенетическую терапию. Всё большее подтверждение находит мнение, что при антропогенном загрязнении основной путь поступления в организм токсичных металлов — попадание промышленной пыли [3]. В настоящее время влияние высокой концентрации токсических металлов на функциональное состояние организма и здоровье населения крупных городов и промышленных центров недостаточно изучено, механизмы детоксикации токсических металлов также полностью не раскрыты. На сегодняшний день не вызывают сомнений два механизма: первый — обусловленный образованием нерастворимых комплексов и второй — кумуляция с иммобилизацией в соответственных критических органах, например накопление свинца в костной ткани. Этим объясняются полученные результаты настоящего исследования, свидетельствующие о преимущественном накоплении в пробах волос подростков токсичных металлов свинца, ртути и кадмия в районах с большей антропогенной нагрузкой, к которым относятся полигоны твёрдых бытовых отходов и крупные автомагистрали [1, 11, 14, 15].
Ключевым звеном патогенеза нарушений регуляции физиологических систем организма под влиянием токсических металлов является нарушение механизмов реализации наследственной информации при прямом или опосредованном повреждении третичных структур хромосом и денатурации ДНК. Основные механизмы повреждения хромосом токсическими металлами обусловлены их прямым взаимодействием с ДНК, а также опосредованно, за счёт снижения активности ряда ферментов, в том числе и антиоксидантной системы, что приводит к накоплению свободнорадикальных форм кислорода, активирующих процессы перекисного окисления липидов и повреждения ДНК.
Наиболее отчётливо проявления повреждения наследственного аппарата клеток наблюдаются при проведении цитогенетического анализа. Например, в представленном исследовании наблюдалось статистически значимое увеличение количества клеток с микроядрами в буккальном эпителии подростков с более высокими показателями свинца, ртути и кадмия в пробах волос. При этом влияние токсических металлов на формирование угревой болезни обусловлено прежде всего ингибированием ряда ферментов в пилосебационных структурах кожного покрова, что приводит к активации фолликулярного гиперкератоза [5, 9, 16].
Свинец и ртуть по химическим особенностям относят к тиоловым ядам за способность связываться с SH-группами аминокислот, с фосфатными группами рибозы, что вызывает разрушение РНК. Один из патогенных механизмов некоторых токсических металлов обусловлен конкурентным замещением эссенциальных металлов, связанных с белками ферментных систем. В настоящем исследовании отмечено снижение концентрации цинка и селена при повышении концентраций свинца и ртути, что совпадает с результатами ряда авторов [4, 10, 17, 18].
Формирование ряда патологических процессов, связанных с влиянием токсических металлов, обусловлено нарушением регуляции иммунной системы, причём наиболее выражены эти взаимосвязи в подростковом периоде. Например, в формирование угревой болезни вносит вклад снижение активности гуморального и повышение клеточного звена иммунитета посредством уменьшения антител, влияющих на рост пропионибактерий и увеличение продуктивного воспаления за счёт активации цитотоксических лимфоцитов и макрофагов [6, 17].
Таким образом, антропогенные токсиканты больших городов негативно влияют на организм подростков, часто усугубляя заболевания, связанные с пубертатным периодом полового развития, в том числе угревую болезнь. Результаты нашего исследования позволяют чётко дифференцировать этиологические факторы формирования угревой болезни, что позволит выбирать более эффективную тактику терапии и будет способствовать стойкой ремиссии, более быстрому выздоровлению и повышению качества жизни подростков.
Ограничение исследования заключается в конфаундинг-эффекте из-за невозможности полного разделения влияния токсических металлополютантов и пубертатных гормональных нарушений на формирование акне у подростков. Этот эффект проявляется во влиянии нескольких причинных факторов на формирование акне, что затрудняет отделение одного фактора от другого. Часто происходит суммирующий эффект. Стоит учитывать и индивидуальные особенности кожи, в частности пилосебационных структур.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подростки, страдающие угревой болезнью, как девочки, так и мальчики, характеризовались снижением концентрации жизненно необходимых микроэлементов — селена и цинка.
Среди подростков, страдающих угревой болезнью, повышение концентрации свинца наблюдалось статистически значимо чаще, чем в контрольной группе.
По результатам микроядерного теста признаки генетической нестабильности выявлялись статистически значимо чаще у подростков, страдающих угревой болезнью, чем у подростков контрольной группы. Оценка ранговой корреляции Спирмена свидетельствует о сильной взаимосвязи повышения количества клеток буккального эпителия с увеличенным количеством микроядер и концентрацией свинца и ртути в пробах волос подростков.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / ADDITIONAL INFORMATION
Вклад авторов: Е.Н. Пильник — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, написание рукописи; Л.Е. Дерягина — концепция и дизайн исследования, общее руководство, редактирование рукописи; В.Л. Рейнюк, А.О. Пятибрат — концепция и дизайн исследования, общее руководство, окончательное редактирование представленной рукописи. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Authors’ contribution: E.N. Pilnik — study concept and design, data collection and data analysis, and writing the manuscript; L.E. Deryagina — study concept and design, general guidance, revision of the manuscript; V.L. Reinyuk, A.O. Pyatibrat — study concept and design, general guidance, final editing of the manuscript. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors have made a significant contribution to the development of the concept, research and preparation of the article, read and approved the final version before publication).
Финансирование. Исследование проведено без финансовой поддержки.
Funding sources. No external funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Competing interests. The authors declare no competing interests.
About the authors
Elena N. Pilnik
Golikov Research Center of Toxicology
Author for correspondence.
Email: pilnik.76@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0489-8132
SPIN-code: 3821-7106
ResearcherId: 1155658
graduate student
Russian Federation, Saint PetersburgLarisa E. Deryagina
V.Ya. Kikot Moscow University
Email: lderyagina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5522-5950
SPIN-code: 6606-6628
Scopus Author ID: 6506233281
ResearcherId: N-5766-2015
MD, Dr. Sci. (Med.), professor
Russian Federation, MoscowVladimir L. Reinyuk
Golikov Research Center of Toxicology
Email: institute@toxicology.ru
ORCID iD: 0000-0002-4472-6546
SPIN-code: 5828-0337
Scopus Author ID: 9844286100
MD, Dr. Sci. (Med.), associate professor
Russian Federation, Saint PetersburgAleksandr O. Pyatibrat
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University
Email: a5brat@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6285-1132
SPIN-code: 9812-4780
Scopus Author ID: 57203367911
ResearcherId: AGS-3308-2022
MD, Dr. Sci. (Med.), associate professor
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Vertinskii AP. pollution of the environment by heavy metals in the Russian Federation. Innovation and investment. 2020;1:232–237. (In Russ).
- Chernyak YuI, Merinova AP. CYP3A polymorphisms and chronic mercury intoxication. Byulleten’ eksperimental’noi biologii i meditsiny. 2019;168(10):479–483. (In Russ).
- Fu Z, Xi S. The effects of heavy metals on human metabolism. Toxicol Mech Methods. 2020;30(3):167–176. doi: 10.1080/15376516.2019.1701594
- Matushevskaya EV, Vladimirova EV, Svirshchevskaya EV. Atopic dermatitis and the role of zinc in maintaining skin barrier pro-perties. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2020;19(3):297–304. (In Russ). doi: 10.17116/klinderma202019031297
- Mel’nov SB. Molekulyarno-geneticheskie aspekty ekologicheskogo neblagopoluchiya (vozmozhnosti protochnoi tsitofluorimetrii). Minsk: Belorusskii komitet “Dzetsi Charnobylya”; 2004. 294 p. (In Russ).
- Pospelova SV, Horovits ES, Krivtsov AV, Dolgikh OV. Study of protective antibacterial mechanisms in children living in the conditions of exposure to emissions of the enterprise of black metallurgy. Laboratory Service. 2021;10(2):22–27. (In Russ).
- Malysheva EV, Fomichev AV, Sosyukin AE, et al. Sovremennye predstavleniya i perspektivy primeneniya enterosorbentov v profilaktike i lechenii neblagopriyatnogo vozdeistviya soedinenii tyazhelykh metallov. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2020;S3:137. (In Russ).
- Litvintsev BS, Fomichev AV, Velikova VD, Malysheva EV. Nevrologicheskie posledstviya vozdeistviya soedinenii rtuti u patsientki Kh., 60 let. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2020;(S3):136–137. (In Russ).
- Skugoreva SG, Ashikhmina TYa, Fokina AI, Lyalina EI. Chemical grounds of toxic effect of heavy metals (review). Theoretical and Applied Ecology. 2016;(1):4–13. (In Russ).
- Balali-Mood M, Naseri K, Tahergorabi Z, et al. Toxic mechanisms of five heavy metals: mercury, lead, chromium, cadmium, and arsenic. Front Pharmacol. 2021;12:643972. doi: 10.3389/fphar.2021.643972
- Lukovnikova LV, Fomichev AV, Ivanenko NB, et al. Biomonitoring system of chemical pollution and assessment of toxicants’ effects on human health: problems and solutions. Bulletin of Education and Science Development of the Russian Academy of Natural Sciences. 2020;(4):111–124. (In Russ). doi: 10.26163/RAEN.2020.97.10.016
- Skal’nyi AV, Lakarova EV, Kuznetsov VV, Skal’naya MG. Analiticheskie metody v bioelementologii. Saint Petersburg: Izdatel’stvo “Nauka”; 2009. 264 p. (In Russ).
- Opredelenie vrednykh veshchestv v biologicheskikh sredakh: sbornik metodicheskikh ukazanii. Moscow: Federal’nyi tsentr gigieny i epidemiologii Rospotrebnadzora; 2008. 183 p. (In Russ).
- Setko AG, Setko NP, Makarova TM, Setko IM. The specific features of children’s adaptability to environmental factors and the criteria for their assessment. Hygiene and Sanitation, Russian Journal. 2005. № 6. С. 57. (In Russ).
- Al Osman M, Yang F, Massey IY. Exposure routes and health effects of heavy metals on children // Biometals. 2019;32(4):563–573. doi: 10.1007/s10534-019-00193-5
- Bodnar M, Konieczka P, Namiesnik J. The properties, functions, and use of selenium compounds in living organisms. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2012;30(3):225–252. doi: 10.1080/10590501.2012.705164
- Ovsjannikova AI. Sostojanie sistemy immuniteta pri jeksperimental’noj hronicheskoj svincovoj intoksikacii. Vlijanie selenita natrija [dissertation]. Vladikavkaz, 2013. (In Russ).
- Tutel’yan VA, Mazo VK, Shirina LI. Znachenie selena v polnotsennom pitanii cheloveka. Gynecology. 2002;4(2):88–90. (In Russ).
Supplementary files