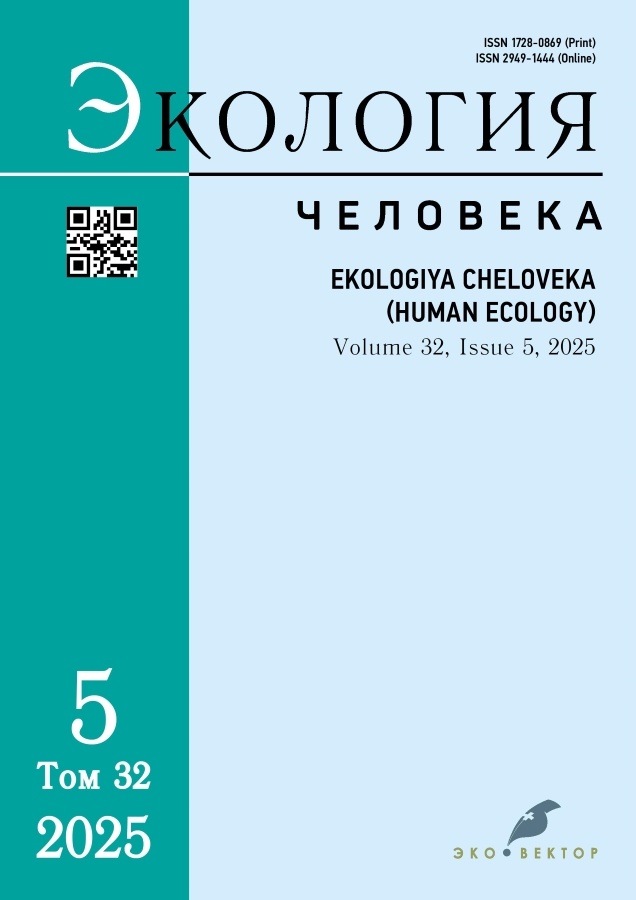Exposure Risk to Public Health and a Method for Assessing Its Increase
- Authors: Saltykova M.M.1, Zhernov Y.V.1, Saltykova E.A.1, Shekhordanova T.V.1, Semenova A.A.1, Banchenko A.D.1
-
Affiliations:
- Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
- Issue: Vol 32, No 5 (2025)
- Pages: 324-333
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 25.12.2024
- Accepted: 30.06.2025
- Published: 20.08.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/643412
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco643412
- EDN: https://elibrary.ru/ZZCBTO
- ID: 643412
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: The combined impact of climatic and socio-economic factors, along with chemical and radiation pollution of the environment, is a defining feature of modern life. The current challenges stem from both insufficient knowledge of the molecular and cellular mechanisms of individual and combined factor effects, and the lack of methodological approaches to studying potential synergistic interactions between factors of different nature.
AIM: To develop an algorithm for detecting an increase in exposure risk to public health in a specific city or territory.
METHODS: Since a significant proportion is made up of small towns, one of the requirements for the developed algorithm was its applicability (robustness) in analyzing data from large, medium, and small cities or territories. The core of the developed algorithm was a comparative analysis of age-specific mortality rates. To detect a statistically significant (non-random) increase in mortality, a comparison was made between mortality data recorded during the observation period and those from the reference interval. To test the adequacy of the proposed algorithm, a comparative analysis of mortality data was performed for 10 cities (Ufa, Kursk, Penza, Kirov, Kaluga, Vologda, Kostroma, Kolomna, Obninsk, Dimitrovgrad) in the European part of the Russian Federation. These cities are located in a temperate continental climate zone and experienced extreme weather conditions in 2010 (low temperatures in January and high temperatures in summer), whereas weather conditions in the following nine years remained within climatic norms. (In Kirov, abnormally low temperatures were recorded in February 2011, so the 2011 mortality data for Kirov were excluded from the analysis.) The year 2010 was designated as the observation period, and 2011–2019 as the reference interval.
RESULTS: In all cities included in the study, an increase in exposure risk was identified in 2010 according to the proposed algorithm. At the same time, in none of the years from 2011 to 2019 was the condition of the algorithm met that would allow for a conclusion about an increase in exposure risk. This further supports the adequacy of the proposed algorithm, as no conditions were presented in the studied cities during the reference interval (2011–2019) that could have led to an increase in exposure risk.
CONCLUSION: The proposed algorithm has been shown to be effective for identifying increased exposure risk to public health in cities with varying population sizes.
Keywords
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Сочетанное влияние природно-климатических и социально-экономических факторов, а также химическое и радиационное загрязнение окружающей среды являются характерными чертами жизни современного человека. Вместе с тем разработка надёжных инструментов для оценки такого воздействия является чрезвычайно сложной задачей [1]. C.P. Wild [1] в 2005 г. предложил дополнить изучение генома человека измерением воздействия окружающей среды, введя понятие «экспосом». Экспосом — это совокупный показатель воздействия окружающей среды и факторов образа жизни на протяжении всей жизни человека [1–3]. Концепция экспосома была разработана, чтобы акцентировать внимание на необходимости более полной оценки воздействия окружающей среды в эпидемиологических исследованиях, окружающая среда в данном контексте определяется в широком смысле как «негенетическая» [4]. C.P. Wild [1] отмечает, что дисбаланс точности при проведении анализа генома и при оценке влияния «негенетической» окружающей среды не позволяет в полной мере извлекать пользу для общественного здравоохранения из затрат на анализ генома человека и проводимых когортных исследований.
Разработка надёжных инструментов для анализа полной истории воздействия является чрезвычайно сложной задачей, которая дополнительно осложняется тем, что экспосом, по сравнению с геномом, является более динамичной структурой, которая развивается на протяжении всей жизни человека. Однако, как и в случае с геномом, даже частичное, целенаправленное понимание воздействия может обеспечить существенный прогресс.
Необходимо отметить, что воздействие окружающей среды на здоровье может оцениваться не только на индивидуальном уровне (экспосом), но и на уровне населения определённых территорий с характерными экологическими условиями, включающими природно-климатические и социально-экономические, а также уровень антропогенного загрязнения окружающей среды. Существующие проблемы разработки методов количественной оценки влияния таких разнородных факторов на здоровье являются общими и для оценок на уровне индивида (экспосом), и для оценок на уровне населения определённой территории. Эти проблемы обусловлены как недостаточностью знаний о молекулярно-клеточном механизме действия каждого из факторов и их сочетаний, так и отсутствием методологических подходов к изучению механизмов вероятного синергического взаимодействия факторов различной природы [5–7]. Вместе с тем возможны ситуации, когда персонал предприятия или население города подвергаются воздействию нескольких регулируемых источников вреда, например, ионизирующего излучения и некоторых химических веществ, и каждое воздействие удовлетворяет отраслевым нормам безопасности, но негативный эффект, вызванный их сочетанным воздействием (аддитивный или синергический) может быть существенно более выраженным по сравнению с изолированным влиянием. Как отмечают В.Г. Петин и соавт. [8], «наиболее распространённые из предполагаемых механизмов синергического взаимодействия связаны с подавлением способности биообъектов к пострадиационному восстановлению в условиях комбинированных воздействий или с формированием дополнительных эффективных повреждений за счёт взаимодействия субповреждений, индуцированных каждым агентом». Кроме того, существенными проблемами, обусловливающими сложность оценки комплексного влияния нескольких загрязняющих окружающую среду источников на здоровье населения, являются как различия в нормах безопасности, разработанных для разных сфер деятельности человека и использующих принципиально разные показатели вредного воздействия, так и наличие таких модулирующих факторов, как природно-климатические и социально-экономические условия, которые существенно влияют на уязвимость населения к воздействию загрязнения [9, 10]. Дополнительное влияние социально-экономических условий на риск развития основных неинфекционных заболеваний и повышенная уязвимость к негативному влиянию загрязнения окружающей среды в группах населения с низким социально-экономическим статусом показаны во многих исследованиях [9, 11].
В связи с этим представляется целесообразным разработать подходы к интегральной оценке негативного влияния на здоровье населения всех факторов экспозиции (химических, физических, природно-климатических, социально-экономических). Для этого может быть использовано понятие «экспозиционный риск», которое не определяет риск развития неинфекционных заболеваний для конкретного индивидуума, подобно оценкам по шкале SCORE [12] или экспосому, а служит для выявления территорий, население которых подвержено опасности увеличения негативного влияния факторов среды обитания и развития тех или иных неинфекционных заболеваний. На этих территориях, помимо мероприятий, направленных на уменьшение влияния управляемых негативных факторов окружающей среды, необходимы действия, направленные на увеличение адаптации населения за счёт снижения его уязвимости к влиянию как управляемых, так и неуправляемых негативных факторов. Это предполагает, с одной стороны, проведение дополнительных медико-профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление маркеров развития соответствующих неинфекционных заболеваний, а с другой стороны, уточнение, какие именно экспозиционные факторы могут оказывать доминирующее влияние, чтобы сузить контингент лиц, которым необходимы дополнительные медико-профилактические мероприятия. В качестве интегральных характеристик комплексного негативного влияния среды обитания (антропогенного загрязнения окружающей среды, экстремальных природных факторов среды и социально-экономических условий) целесообразно использовать показатели смертности населения. Количественно оценить экспозиционный риск как вероятность негативного влияния факторов окружающей среды на здоровье населения определённой территории с небольшим населением не представляется возможным. Вместе с тем на основании анализа данных о смертности населения целесообразно выявлять факт увеличения экспозиционного риска здоровью населения в анализируемый год по сравнению с референсным временны΄м интервалом. Использование для этих целей показателей заболеваемости не представляется возможным, поскольку применяемые в настоящее время формы отчётности по этим показателям не предполагают разбиения по полу и на возрастные группы. Вместе с тем города имеют различную возрастную структуру населения, которая изменяется с течением времени, поэтому при анализе влияния на здоровье населения любых факторов экспозиции необходимо использовать показатели, характеризующие состояние здоровья населения с разделением на 5-летние возрастные подгруппы.
Основная часть российских городов — это средние и малые города. По состоянию на 2019 г. в России насчитывалось более 1100 городов, при этом основная их часть (около 1000 городов) с населением менее 100 тыс. человек1. Статистический анализ данных о смертности населения со стратификацией по полу, возрасту и причинам смерти в таких городах существенно затруднён вследствие относительного небольшого объёма выборки, и использовать, например, регрессионные модели для оценки вклада тех или иных факторов не представляется возможным [13]. В небольших городах, поскольку население невелико, в силу случайных колебаний смертность в абсолютных единицах (количество умерших людей) в молодом и детском возрастах меняется кратно от года к году. Это обусловливает необходимость использовать для анализа только показатели смертности в старших возрастных группах, в которых из-за более высокой смертности случайные флуктуации относительно менее значимы (случайные межгодовые колебания меньше средних значений). Однако, поскольку количество населения в 5-летних возрастных группах старше 75 лет резко уменьшается, то представляется нецелесообразным включать в анализ эти возрастные группы. Таким образом, наиболее устойчивыми к случайным флуктуациям оказываются показатели смертности в следующих четырёх возрастных группах мужчин и женщин: 55–59 лет, 60–64 года, 65–69 лет, 70–74 года.
Хотя ухудшение состояния среды обитания влияет прежде всего на заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, а также болезней органов дыхания и пищеварения, в небольших городах использовать показатели смертности отдельно для каждой из этих групп причин смерти не представляется возможным. Основные причины следующие. Во-первых, в городах с населением до 100 тыс. человек соответствующие повозрастные показатели смертности в абсолютных единицах имеют небольшие значения, что, как уже отмечалось, обусловливают высокие случайные флуктуации. Во-вторых, как показано во многих исследованиях [14–20], в Российской Федерации имеются значимые искажения структуры причин смерти трудоспособного населения. В связи с этим представляется целесообразным использовать повозрастные показатели смертности от всех причин смерти.
Таким образом, наиболее устойчивыми к случайным флуктуациям являются показатели смертности от всех причин в возрастных группах мужчин и женщин 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 лет.
Цель исследования. Разработка алгоритма выявления увеличения экспозиционного риска здоровью населения определённого города или территории. Поскольку значительную часть городов Российской Федерации составляют небольшие города, то одним из требований к разрабатываемому алгоритму была применимость (устойчивость) его при анализе данных как больших, так средних и малых городов или территорий.
Таким образом, данное исследование было направлено не на разработку нового метода оценки риска, а на разработку способа выявления факта увеличения экспозиционного риска.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основу разработанного алгоритма составил сравнительный анализ повозрастных показателей смертности населения. Для выявления достоверно значимого (неслучайного) увеличения смертности проводили сравнение данных о смертности населения, зарегистрированной в анализируемый период и в течение референсного интервала.
Описание алгоритма
- Выбирается референсный временной интервал (не менее девяти лет), в течение которого влияние среды обитания на здоровье населения было относительно неизменным (стационарным).
- В каждой из четырёх 5-летних возрастных групп мужчин и женщин от 55 до 74 лет определяются максимальные за этот референсный интервал значения показателей ежегодной смертности от всех причин на 100 тыс. населения.
- Для анализируемого года в каждой из четырёх 5-летних возрастных групп мужчин и женщин от 55 до 74 лет вычисляются значения показателей смертности от всех причин на 100 тыс. населения соответствующего пола и возраста.
- Вычисленные в пункте 3 значения показателей смертности сравниваются с соответствующими значениями, максимальными за референсный интервал.
Если как для мужчин, так и для женщин не менее чем в двух из четырёх возрастных групп 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 лет значения показателей смертности от всех причин за анализируемый год выше соответствующих максимальных значений, то делается вывод о том, что в этот год имеет место неслучайное увеличение смертности, другими словами — увеличение экспозиционного риска.
Статистическое обоснование использованного подхода следующее. Зарегистрированные в течение девяти лет референсного интервала значения ежегодных показателей смертности от всех причин в каждой возрастной подгруппе мужчин или женщин разбивают весь числовой ряд на 10 интервалов: меньше минимального значения ежегодной смертности, зарегистрированного в этой возрастной группе соответствующего пола в течение референсного интервала (9 лет), от минимального до второго по величине и т.д., последний интервал — больше максимального значения ежегодной смертности, зарегистрированного в этой возрастной группе соответствующего пола в течение референсного интервала. Необходимо отметить, что, хотя длина интервалов на числовой оси (соответствующей количеству смертей на 100 тыс. населения) будет разной, но в данном алгоритме мы рассматриваем ранговую (порядковую) шкалу, в которой длины интервалов равны (расстояние между соседними рангами можно считать равным 1). Интервалы определяются отдельно для мужчин и для женщин, поскольку показатели смертности у них во всех анализируемых возрастных группах существенно различаются. Такими образом, каждой из четырёх 5-летних возрастных групп (55–59 лет, 60–64 года, 65–69 лет, 70–74 года) мужчин или женщин соответствует числовой ряд, разбитый на 10 интервалов в соответствии с показателями ежегодной смертности лиц соответствующего пола и возраста в течение референсного интервала (9 лет). Всего в анализ должно быть включено 8 числовых рядов (2 пола (мужчины и женщины) и 4 возрастных группы), каждый из которых разбит на 10 интервалов. При отсутствии модифицирующего воздействия на смертность населения значения показателей смертности в каждой возрастной группе с равной вероятностью (р=0,1) попадают в один из 10 интервалов, соответствующих этой возрастной группе и описанных выше. Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии модифицирующего влияния можно использовать биномиальный критерий, при этом количество «испытаний» равно 4 (4 возрастных группы), количество «успехов» не меньше 2 (то есть 2, 3 или 4), а вероятность «успеха» равна 0,1. Вероятность (р) того, что случайно (при отсутствии модифицирующего влияния на смертность) не менее чем в двух из четырёх возрастных групп мужчин (женщин) значения показателей смертности в анализируемый год попадают в интервал выше соответствующего максимального значения за референсный интервал равна 0,0523 (поскольку распределение биномиальное, то р=0,14+С43×0,13× 0,9+С42×0,12×0,92=0,0523, где С43 и С42 — биномиальные коэффициенты, которые равны соответственно 4 и 6). Вероятность того, что не менее чем в двух из четырёх возрастных групп и мужчин, и женщин значения смертности попадают в интервал выше соответствующего максимального равна 0,0027 (0,0523×0,0523=0,002735), то есть ошибка первого рода (вероятность отклонить верную нулевую гипотезу об отсутствии какого-либо модифицирующего влияния на смертность населения) равна 0,0027, что менее 0,01. Таким образом, если в анализируемый год показатели смертности и мужчин, и женщин не менее чем в двух из четырёх возрастных групп превосходят максимальные значения для соответствующего пола и возраста (вычисленные по данным за референсный интервал), то с достоверностью 99 % можно говорить о неслучайном увеличении смертности, то есть о наличии модифицирующего влияния каких-либо факторов на смертность населения.
Для того, чтобы проверить адекватность предлагаемого алгоритма, был проведен сравнительный анализ данных о смертности населения в 10 городах в 2010 – 2019 гг. В качестве анализируемого периода рассматривался 2010 г., а 2011– 2019 гг. — в качестве референсного интервала.
В анализ включены данные о смертности населения в 10 городах европейской части Российской Федерации (Уфе, Курске, Пензе, Кирове, Калуге, Вологде, Костроме, Коломне, Обнинске, Димитровграде), расположенных в зоне умеренно-континентального климата и в которых в 2010 г. зарегистрированы экстремальные погодные условия (низкая температура в январе и высокая температура в летние месяцы), а в последующие 9 лет погодные условия были в пределах климатической нормы (в Кирове в феврале 2011 г. регистрировалась аномально низкая температура, поэтому данные о смертности населения в Кирове в 2011 г. были исключены из анализа). Поскольку наиболее значимыми природно-климатическими факторами, потенциально влияющими на увеличение смертности от хронических неинфекционных заболеваний, являются экстремальные погодные условия [7–11], то для указанных 10 городов 2010 г. рассматривался как год с повышенным экспозиционным риском для здоровья. В качестве референсного интервала был выбран временной интервал с 2011 по 2019 г. с благополучной экологической обстановкой, со стационарными природно-климатическими, социально-экономическими и относительно благоприятными эпидемиологическими условиями, то есть с отсутствием периодов с экстремальными погодными условиями и обострением социально-экономических проблем, а также с отсутствием эпидемий особо опасных инфекций (заболеваний инфекционной природы, представляющих чрезвычайную эпидемическую опасность для населения). Использовали данные Государственных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации, ежегодных сборников о состоянии загрязнения атмосферы в городах России и баз данных показателей муниципальных образований Росстата.
Исходные данные о численности и смертности населения в 10 городах за 2010–2019 гг. (со стратификацией по полу и возрасту) по запросу были предоставлены Федеральной службой государственной статистики. В анализ были включены данные о смертности от всех причин в возрастных группах мужчин и женщин 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 лет. Были вычислены показатели смертности мужчин и женщин в указанных возрастных группах на 100 тыс. населения соответствующего пола и возраста. Данные о природно-климатических условиях в городах, включённых в исследование, были получены с сайта «Погода и климат» (http://www.pogodaiklimat.ru).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 представлена краткая характеристика городов, включённых в исследование. В табл. 2 представлены максимальные значения показателей смертности населения в городах, включённых в анализ, с указанием года, в который это значение было зарегистрировано (в интервале с 2010 по 2019 г.). Как можно видеть из табл. 2, во всех городах, включённых в исследование, не менее чем в двух возрастных группах максимальные значения показателей смертности и мужчин, и женщин были зарегистрированы в 2010 г. (анализируемый год). В Курске и Обнинске максимальные значения показателей смертности мужчин и женщин зарегистрированы в 2010 г. во всех четырёх возрастных группах, включённых в исследование. Необходимо отметить, что показатели ежегодной смертности ни в один из годов с 2011 по 2019 не удовлетворяют требованию предлагаемого алгоритма (то есть ни в один из годов с 2011 по 2019 г. не выполняется следующее условие: значения показателей смертности от всех причин выше, чем в остальные годы не менее чем двух из четырёх включённых в исследование возрастных групп и мужчин, и женщин). Это дополнительно свидетельствует об адекватности алгоритма, так как в городах, включённых в исследование, в течение референсного интервала (2011–2019 гг.) не было причин, которые могли бы обусловить увеличение экспозиционного риска.
Таблица 1. Численность населения на территориях, включённых в исследование, на 2019 г.
Table 1. Population size in the areas included in the study as of 2019
Город | Численность населения | Субъект Российской Федерации |
Уфа | 1 124 226 | Башкортостан |
Курск | 449 556 | Курская область |
Пенза | 522 317 | Пензенская область |
Киров | 512 954 | Кировская область |
Калуга | 336 726 | Калужская область |
Вологда | 311 846 | Вологодская область |
Кострома | 276 064 | Костромская область |
Коломна | 141 106 | Московская область |
Обнинск | 125 376 | Калужская область |
Димитровград | 114 229 | Ульяновская область |
Таблица 2. Максимальные значения показателей смертности населения в городах, включённых в анализ, в интервале с 2010 по 2019 г.
Table 2. Maximum mortality rates in the analyzed cities for the period 2010–2019
Город | Смертность мужчин (на 100 тыс.) | Смертность женщин (на 100 тыс.) | ||||||
55–59 лет | 60–64 года | 65–69 лет | 70–74 года | 55–59 лет | 60–64 года | 65–69 лет | 70–74 года | |
Уфа | 2309 (2010) | 3676 (2010) | 4762 (2014) | Нет данных | 882 (2010) | 1232 (2011) | 1818 (2010) | Нет данных |
Курск | 2855 (2010) | 3672 (2010) | 5422 (2010) | 6933 (2010) | 803 (2010) | 1391 (2010) | 1871 (2010) | 3301 (2010) |
Пенза | 2401 (2010) | 3759 (2010) | 4833 (2013) | 7191 (2010) | 694 (2011) | 1162 (2010) | 1712 (2011) | 3042 (2010) |
Киров | 2688 (2010) | 3928 (2010) | 4941 (2012) | 7313 (2010) | 815 (2012) | 1129 (2010) | 1743 (2015) | 2935 (2010) |
Калуга | 2603 (2019) | 3969 (2010) | 4703 (2012) | 6494 (2010) | 816 (2013) | 1500 (2010) | 1879 (2010) | 3362 (2010) |
Вологда | 3474 (2010) | 4243 (2010) | 5732 (2012) | 8521 (2010) | 978 (2010) | 1330 (2010) | 2164 (2014) | 3241 (2010) |
Кострома | 2511 (2010) | 3868 (2010) | 5487 (2010) | 8556 (2010) | 929 (2010) | 1391 (2010) | 2092 (2014) | 3796 (2010) |
Коломна | 3183 (2010) | 3872 (2010) | 6128 (2010) | 8221 (2010) | 976 (2010) | 1532 (2010) | 2150 (2011) | 3349 (2012) |
Обнинск | 3122 (2010) | 4350 (2010) | 6239 (2010) | 9009 (2010) | 1502 (2010) | 1656 (2010) | 2771 (2010) | 4287 (2010) |
Димитровград | 3097 (2010) | 4682 (2011) | 5616 (2015) | 8947 (2010) | 941 (2010) | 1729 (2010) | 2504 (2010) | 4048 (2010) |
ОБСУЖДЕНИЕ
В Российской Федерации одной из важнейших проблем остаётся высокая преждевременная смертность населения от неинфекционных заболеваний [21]. Как отмечают многие исследователи, при разработке мероприятий, направленных на её снижение, необходимо изучение и анализ управляемых составляющих преждевременной смертности [22–25].
Проведённое исследование позволило предложить алгоритм выявления увеличения экспозиционного риска, то есть увеличения негативного влияния факторов среды обитания на здоровье населения определённой территории или города на основе анализа показателей смертности населения в 5-летних возрастных группах. Представляется целесообразным широко использовать такой алгоритм для определения «проблемных» городов, чтобы в этих конкретных городах затем проводить детальный анализ факторов среды обитания для выявления тех, которые обусловили (в отличии от «потенциально могут оказать») негативное влияние на здоровье населения и увеличение его смертности.
Общепринятый метод оценки совокупного воздействия факторов различной природы на здоровье населения основан на физико-химическом анализе проб воздуха, воды и почвы и сравнении концентраций определяемых загрязняющих веществ с предельно допустимыми значениями. Однако этот подход имеет ряд существенных недостатков. В частности, количество токсичных и мутагенных веществ, присутствующих и вновь образующихся в окружающей среде, всегда значительно превышает то, которое могут выявить доступные средства и методы контроля антропогенного воздействия на природу. В то же время даже исчерпывающая информация о загрязняющих веществах в окружающей среде не позволяет оценить ожидаемые токсические и мутагенные эффекты при одновременном воздействии нескольких неблагоприятных факторов из-за их потенциального синергического и антагонистического взаимодействия [26, 27].
В англоязычной литературе в последние годы при оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье достаточно часто встречается понятие «кумулятивный риск» [10, 28, 29]. K.R. Solomon и соавт. [10] дают этому понятию следующее определение: «Кумулятивный риск формально определяется как комбинация рисков, создаваемых совокупным воздействием нескольких агентов или стрессоров, при которой совокупное воздействие представляет собой воздействие всеми путями и путями из всех источников каждого данного агента или стрессора» [10]. Вместе с тем в русском языке понятие «кумулятивный» традиционно обозначает «накопительный», а говоря о риске воздействия факторов различной природы, необходимо учитывать возможность не только аддитивного, но и синергического или, напротив, антагонистического эффектов. Поэтому представляется, что словосочетание «экспозиционный риск» является более удачным. Необходимо отметить, что при оценке риска здоровью вследствие загрязнения окружающей среды химическими веществами используется понятие «факторы экспозиции», которое определяется только как количественное поступление химического вещества в организм человека разными путями в результате контакта с различными объектами окружающей среды (воздух, вода, почва, продукты питания) [30, 31]. При оценке экспозиционного риска речь идёт об экспозиции населения всем факторам среды обитания, в том числе социально-экономическим.
K. Sexton и S.H. Linder [32] обращают внимание на то, что при оценке кумулятивного риска исследователи неизбежно вынуждены использовать упрощённый перечень индикаторов и допущений, включая схематическое постулирование связей между независимыми переменными, а также между независимыми и зависимыми переменными, включёнными в анализ. Это означает, что результаты могут быть только качественными или в лучшем случае полуколичественными. Также K. Sexton и S.H. Linder [32] отмечают, что оценка риска здоровью с учётом факторов стресса нехимической природы, таких как, например, уровень жизни, недостаточно эффективна из-за отсутствия надёжных баз данных и разработанных аналитических подходов.
Вместе с тем при анализе влияния факторов среды обитания на здоровье населения Российской Федерации необходимо принимать во внимание многообразие и природно-климатических, и социально-экономических, и экологических условий, что с учётом относительно небольшого населения не позволит в ближайшее время создать базы данных, достаточные по объёму для разработки универсальных аналитических подходов. Это обусловливает необходимость разработки простых алгоритмов, направленных прежде всего на выявление увеличения негативного влияния факторов среды обитания на здоровье, которые могут быть полезными при использовании на существенно различающихся по условиям жизни территориях с небольшим населением. Одним из таких алгоритмов может быть предлагаемый алгоритм выявления увеличения экспозиционного риска здоровью населения.
Следует отметить, что в настоящей работе существуют определённые ограничения. Прежде всего необходимо обратить внимание на сложность выбора референсного интервала, в течение которого условия среды обитания населения анализируемой территории должны быть относительно стационарными. Кроме того, изменение социальной структуры населения, например, за счёт увеличения доли мигрантов из других регионов или, наоборот, усиления поддержки миграции людей старшего возраста из районов Крайнего Севера, может искажать изучаемые показатели и должно приниматься во внимание в ходе анализа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен алгоритм выявления увеличения экспозиционного риска здоровью населения определённого города или территории в анализируемый период по сравнению с референсным. Проведена оценка адекватности алгоритма с использованием данных о смертности населения в 10 городах Российской Федерации в 2010–2019 гг. Показано, что алгоритм может эффективно использоваться для выявления увеличения экспозиционного риска здоровью в городах с разным количеством населения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. М.М. Салтыкова — автор идеи, сбор и анализ данных и литературных источников, написание и редактирование статьи; Ю.В. Жернов — написание и редактирование статьи, окончательное утверждение рукописи; Е.А. Салтыкова — сбор и анализ данных и литературных источников, написание и редактирование статьи; Т.В. Шехорданова — статистический анализ данных, подготовка и написание текста статьи; А.А. Семенова — анализ данных, подготовка и написание текста статьи; А.Д. Банченко — статистический анализ данных и подготовка текста статьи. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. В связи с тем, что работа проводилась только с архивными данными, опубликованными Росстатом, разрешение этического комитета на проведение исследования не требовалось.
Источники финансирования. Работа выполнена в рамках государственного задания с шифром «Индикатор риска 25–27», регистрационный номер ЕГИСУ 125032604484-5.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: M.M. Saltykova: conceptualization; investigation; formal analysis; writing—original draft; writing—review & editing; Yu.V. Zhernov: writing—original draft; writing—review & editing; E.A. Saltykova: investigation; formal analysis; writing—original draft; writing—review & editing; T.V. Shekhordanova: formal analysis; writing—original draft; A.A. Semenova: formal analysis; writing—original draft; A.D. Banchenko: formal analysis; writing—original draft. All the authors confirm that their authorship meets the ICMJE criteria (all authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication).
Ethics approval: As the study was conducted solely using archival data published by Rosstat, approval from an ethics committee was not required.
Funding sources: This work was carried out as part of the state assignment titled “Risk Indicator 25–27” (registration number EGISU 125032604484-5).
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. Режим доступа: https://mchs.gov.ru/uploads/document/2022-03-22/92f1282638e98bee41afcccdbc57f247.pdf
About the authors
Marina M. Saltykova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Author for correspondence.
Email: saltykova@cspfmba.ru
ORCID iD: 0000-0002-1823-8952
SPIN-code: 3310-9270
Dr. Sci. (Biology)
Russian Federation, MoscowYury V. Zhernov
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: zhernov@list.ru
ORCID iD: 0000-0001-8734-5527
SPIN-code: 4538-9397
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor
Russian Federation, MoscowElena A. Saltykova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: Esaltykova@cspfmba.ru
ORCID iD: 0000-0003-3180-4370
SPIN-code: 7327-3928
Cand. Sci. (Biology)
Russian Federation, MoscowTatiana V. Shekhordanova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: TShehordanova@cspfmba.ru
ORCID iD: 0009-0006-4228-8892
SPIN-code: 3029-9317
Russian Federation, Moscow
Anastasiya A. Semenova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: ASemenova@cspfmba.ru
ORCID iD: 0009-0007-3709-250X
SPIN-code: 7974-4538
Russian Federation, Moscow
Alexey D. Banchenko
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: alek-banchenko@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0004-6289-2742
SPIN-code: 4296-2374
Russian Federation, Moscow
References
- Wild CP. Complementing the genome with an ‘exposome’: the outstanding challenge of environmental exposure measurement in molecular epidemiology. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005;14(8):1847–1850. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-05-0456
- Miller GW, Jones DP. The nature of nurture: refining the definition of the exposome. Toxicol Sci. 2014;137(1):1–2. doi: 10.1093/toxsci/kft251
- Chung MK, House JS, Akhtari FS, et al. Decoding the exposome: data science methodologies and implications in exposome-wide association studies (ExWASs). Exposome. 2024;4(1):osae001. doi: 10.1093/exposome/osae001
- Wild CP. The exposome: from concept to utility. Int J Epidemiol. 2012;41(1):24–32. doi: 10.1093/ije/dyr236
- Tolkayeva MS, Filimonova AN, Vorobey OA, et al. Patterns of synergic interaction display after heavy metals combined with hyperthermia or ionizing radiation. Radiation Biology. Radioecology. 2020;60(5):524–531. doi: 10.31857/S0869803120050094 EDN: LMAOCG
- Petin VG, Zhurakovskaya GP, Komarova LN. Radiobiological foundations of synergistic interactions in the biosphere. Moscow: GEOS; 2012. 219 p. (In Russ.) EDN: QKUNUF
- Evstratova ES, Petin VG, Zhurakovskaya GP. Synergistic effects and their potential significance for the influence of natural intensities of environmental factors on cell growth. Synergy. 2018;6:1–8. doi: 10.1016/j.synres.2017.12.001 EDN: XXCODZ
- Petin VG, Dergacheva IP, Zhurakovskaya GP. Combined biological effect of ionizing radiation and other hazardous environmental factors (scientific review). Radiation and Risk. 2001;(12):117–134. EDN: IJTMHT
- Fabisiak JP, Jackson EA, Brink LA, Presto AA. A risk-based model to assess environmental justice and coronary heart disease burden from traffic-related air pollutants. Environ Health. 2020;19(1):34. doi: 10.1186/s12940-020-00584-z
- Solomon KR, Wilks MF, Bachman A, et al. Problem formulation for risk assessment of combined exposures to chemicals and other stressors in humans. Crit Rev Toxicol. 2016;46(10):835–844. doi: 10.1080/10408444.2016.1211617
- Clark LP, Millet DB, Marshall JD. Changes in transportation-related air pollution exposure by race-ethnicity and socioeconomic status: outdoor nitrogen dioxide in the United States in 2000 and 2010. Environ Health Perspect. 2017;125(9):097012. doi: 10.1289/EHP959
- Erina AM, Usoltsev DA, Boyarinova MA, et al. Appointment of lipid-lowering therapy in the Russian population: comparison of Score and Score2 (according to the ESSE-RF study). Russian Journal of Cardiology. 2022;27(5):7–13. doi: 10.15829/1560-4071-2022-5006 EDN: HBBGKQ
- Shaposhnikov DA, Revich BA. On some approaches to calculation of health risks caused by temperature waves. Health Risk Analysis. 2018;(1):22–31. doi: 10.21668/health.risk/2018.1.03 EDN: YUOPGR
- Saltykova MM, Antipina UI, Balakaeva AV. Problems of mortality analysis in towns of the Russian Federation. Medicine of Extreme Situations. 2022;24(4):90–95. doi: 10.47183/mes.2022.035 EDN: ICAWXO
- Ivanova AE, Sabgayda TP, Semenova VG, et al. Factors distorting death causes structure in working population in Russia. Social Aspects of Population Health. 2013;(4):1. EDN: RBTQQZ
- Sabgayda TP, Semenova VG. Relationship between decline in cardiovascular mortality in 2013–2015 and change in mortality from other causes. Social Aspects of Population Health. 2017;(5):2. doi: 10.21045/2071-5021-2017-57-5-2 EDN: ZSVYFL
- Yumaguzin VV, Vinnik MV. Quality problems of mortality statistics in Russia. ECO Journal. 2019;(10):54–77. doi: 10.30680/ЕСО0131-7652-2019-10-54-77
- Semenova VG, Golovenkin SE, Evdokushkina GN, Sabgayda TP. The losses because of diseases of cardiovascular system in the context of program of decreasing cardiovascular mortality in Russia. Health Care of the Russian Federation. 2016;60(1):4–9. doi: 10.18821/0044-197Х-2016-60-1-4-9 EDN: VOCBFL
- Sabgayda TP, Semenova VG, Yevdokushkina GN, et al. Modification of death causes in mortality statistics. Social Aspects of Population Health. 2014;(3):2. EDN: SINAIR
- Sabgayda TP, Tarasov NA, Yevdokushkina GN. The mortality of diabetes mellitus from the perspective of multiple causes of death: encoding problems. Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine. 2019;27(6):1043–1048. doi: 10.32687/0869-866X-2019-27-6-1043-1048
- Boytsov SA, Deev AD, Shalnova SA. Mortality and risk factors for non-communicable diseases in Russia: specific features, trends, and prognosis. Terapevticheskii Arkhiv. 2017;89(1):5–13. doi: 10.17116/terarkh20178915-13 EDN: XXELIF
- Sabgayda TP. The preventable causes of death in Russia and in the EU countries. Health Care of the Russian Federation. 2017;61(3):116–122. doi: 10.18821/0044-197Kh-2017-61-3-116-122 EDN: YSLAVF
- Ivanova AE, Mikhaylov AYu. Assessment of population policy aimed at reducing mortality at the regional level in Russia. Social Aspects of Population Health. 2017;(5):1. doi: 10.21045/2071-5021-2017-57-5-1 EDN: ZSVYFB
- Ivanova AE, Semenova VG, Sabgayda TP. Reserves for reducing mortality in Russia due to the effectiveness of healthcare. Vestnik Rossijskoj Akademii Nauk. 2021;91(9):865–878. doi: 10.31857/S086958732109005X EDN: YQQLDK
- Ivanova AE, Sabgayda TP, Semenova VG, Evdokushkina GN. Health performance evaluation using preventable mortality criteria. The City Healthcare Journal. 2022;3(1):41–52. doi: 10.47619/2713-2617.zm.2022.v.3i1;41–52 EDN: UDENPI
- Burlakova EB, Dodina GP, Zyuzikov NA et al. The effect of a small dose of ionizing radiation and chemical pollutants on humans and biota. The program "Assessment of the combined effects of radionuclide and chemical pollutants". Atomic Energy. 1998;85(6):457–462. (In Russ.)
- Proskuryakova NL, Simakov AV, Alferova TM. To the question of the combined effect of ionizing radiation and harmful factors on the human body. Medical and Biological Problems of Life Activity. 2021;(2):70–76. EDN: CZMULF
- Gallagher SS, Rice GE, Scarano LJ, et al. Cumulative risk assessment lessons learned: A review of case studies and issue papers. Chemosphere. 2015;120:697–705. doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.10.030
- Tong R, Zhang B. Cumulative risk assessment for combinations of environmental and psychosocial stressors: A systematic review. Integr Environ Assess Manag. 2024;20(3):602–615. doi: 10.1002/ieam.4821
- Rakhmanin YuA, Shashina TA, Unguryanu TN, et al. Characteristics of quantitative values of exposure of regional factors in the studied areas. Hygiene and Sanitation. 2012;91(6):30–33. EDN: PWKTIP
- Guidelines for assessing the risk to public health from exposure to chemicals that pollute the environment. Moscow; 2004. 143 p. (In Russ.) URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/cb0/4293853015.pdf
- Sexton K, Linder SH. Cumulative risk assessment for combined health effects from chemical and nonchemical stressors. Am J Public Health. 2011;101(Suppl 1):S81–S88. doi: 10.2105/AJPH.2011.300118
Supplementary files