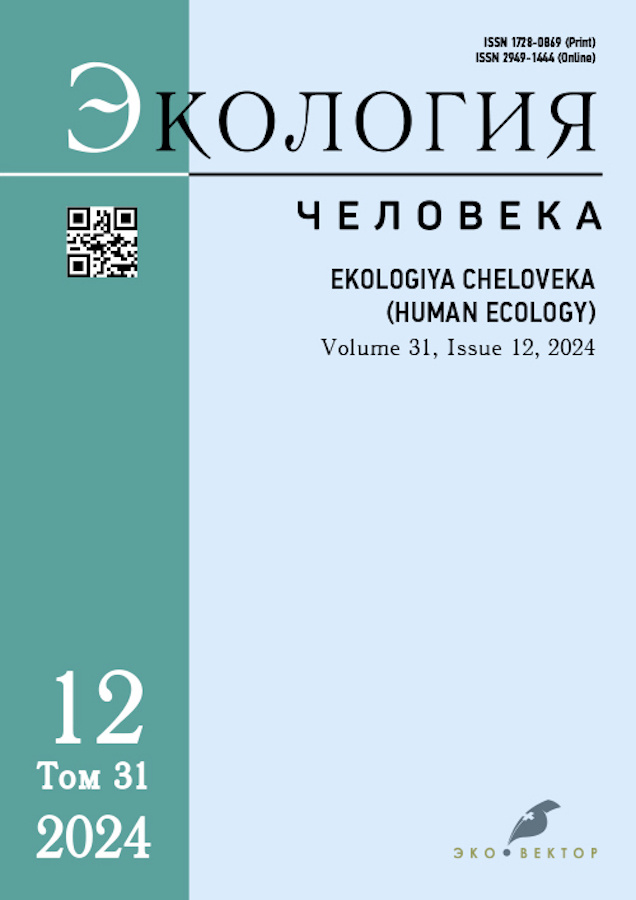Environmental culture and greening of everyday life among youth in the Republic of Tatarstan
- Authors: Saveleva Z.V.1, Khokhlov A.A.1
-
Affiliations:
- Kazan (Volga Region) Federal University
- Issue: Vol 31, No 12 (2024)
- Pages: 906-920
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 25.12.2024
- Accepted: 21.05.2025
- Published: 03.07.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/643423
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco643423
- EDN: https://elibrary.ru/wzwrpm
- ID: 643423
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: The need for a detailed examination of young people’s environmental awareness and behavior—as well as identification of the characteristics of these components of environmental culture—is supported by previous empirical research. Youth in the Republic of Tatarstan demonstrate a high level of environmental engagement: 74% report interest in environmental issues, 93% believe they can personally contribute to environmental protection, and 72% report participating in environmental initiatives.
AIM: The study aimed to examine the nature and content of environmental culture components among young people (awareness and behavior), as well as their experience of environmental integration into everyday life in modern society (using the Republic of Tatarstan as example).
METHODS: To collect social data, both quantitative (a mass online survey of young people aged 16–35 residing in the Republic of Tatarstan, n=1349, 2023) and qualitative (focus group discussions with “student” and “working” youth (n=6, 2023–2024) methods were employed. The selection of respondents for the mass online survey was carried out with consideration of gender, age, and type of settlement. Focus group participants were selected using purposive sampling.
RESULTS: The study made it possible to gather young people’s opinions regarding their interest in environmental issues, their level of participation in environmental initiatives, and their adoption of environmentally conscious practices. Discussion of young people’s experiences of environmental integration into their daily lives made it possible to identify existing institutional and non-institutional barriers to pursuing an eco-friendly lifestyle.
CONCLUSION: The study of environmental culture components among youth in the Republic of Tatarstan showed that environmental situation, along with family values, rank highly among life priorities. The level of interest in environmental issues and involvement in ecological initiatives is sufficient to enable environmentally justified actions toward the environment, carried out with an awareness of their consequences. The variables are influenced by social and demographic characteristics (age, gender, type of residence), the type of the respondent’s activity, and prior exposure to the subject of Ecology.
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Актуальность исследования экологического сознания молодых людей обусловлена важностью экологических проблем, возрастающей неопределённостью, возникающей из-за развития производства и новых технологий, цифровизацией, и значимой ролью молодёжи как актора социальных изменений в современном мире. Именно с молодёжью связывают ожидания по выстраиванию гармоничных отношений в системе «человек–природа–общество». Преимуществами развития и формирования экологической культуры у подрастающего поколения можно назвать продолжающийся процесс социализации, а, следовательно, и «лабильное» сознание, выполнение в обществе инновационной, трансляционной и воспроизводственной функций.
В настоящее время внимание исследователей сосредоточено на изучении следующих вопросов, прямо или косвенно связанных с экологической культурой молодёжи:
- роль молодёжи в преодолении экологических рисков;
- трансформация экологического поведения в условиях цифровизации и глобализации;
- факторы формирования экологического сознания, среди которых выделяют опыт родительской семьи, социальные сети и экологическое просвещение или образование.
Часть исследований направлена непосредственно на изучение отношения молодых людей к глобальным экологическим проблемам, например изменению климата. Так, в 2021 году 60% из 10 тыс. молодых людей в возрасте 16–25 лет, опрошенных в десяти странах мира (Австралия, Бразилия, Финляндия, Франция, Индия, Нигерия, Филиппины, Португалия, Великобритания и Соединённые Штаты Америки) чувствовали себя «очень обеспокоенными» или «крайне обеспокоенными» в связи с изменением климата, а 45% респондентов сообщали, что это негативно сказывается на их повседневной жизни. Данное исследование также показало, что 75% респондентов «считают будущее пугающим», а 83% заявили, что люди «потерпели неудачу в заботе о планете» [1].
Канадские учёные на основе анализа 62 опросов среди молодёжи, посвящённых экологической культуре, выделяют предикторы проэкологического поведения в подростковом возрасте и обнаруживают значимую связь между предрасположенностью к проэкологическому поведению и социально-демографическими характеристиками (пол, возраст, образование, этническая принадлежность) [2]. Наиболее значимыми факторами, способствующими формированию проэкологического поведения, являются соответствующие убеждения и установки, осведомлённость о природных проблемах, ощущение поведенческого или личного контроля, а также готовность к совершению экологически целесообразных поступков. Помимо этого, влияние на предрасположенность к данному поведению могут оказывать время, проведённое на природе, принятие стратегий, направленных на поиски решений различных проблем, а также позитивные мысли и цели о личном будущем.
Отдельные исследования посвящены анализу родительского опыта как фактора формирования экологического сознания [3]. Так, L. Nazneen и соавт. [3], проанализировав результаты опроса молодых людей в возрасте 18–25 лет, пришли к выводу, что опыт родительской семьи играет значительную роль в формировании проэкологического отношения и поведения молодёжи. При этом женщины более подвержены влиянию экологически дружественных отношений своих родителей по сравнению с мужчинами. Следует отметить, что и ранее проведённое исследование демонстрировало, что женщины, ввиду более высокого уровня эмпатии по отношению к окружающей среде, имеют большую предрасположенность к проэкологическому поведению [4].
В исследовании L.V. Casaló и соавт. [5] также установлено, что родительская забота, а также участие родителей в социальной жизни и процессе социализации ребёнка оказывают бÓльшее влияние на девушек. При этом проэкологическое отношение родителей рассматривают как ключевой фактор развития данного поведения у их детей.
В качестве фактора формирования экологического сознания студентов рассматривают и социальные сети, которые с развитием интернета получили распространение среди молодых людей и стали для них неотъемлемой частью жизни [6]. Исследователи провели опрос среди учёных, специализирующихся на экологической осведомлённости, а также профессоров университетов. В числе ключевых источников информации, способствующих развитию экологического сознания, респонденты отметили онлайн-конференции и дискуссионные группы, посвящённые актуальным экологическим проблемам (56%), а также социальные сети (51%).
Проблематика экологического сознания активно рассматривается в научной литературе, а вопросы экологического поведения — в современных теоретических подходах [7, 8]. В исследовании экологической культуры молодёжи Екатеринбурга установлено, что молодые люди проявляют интерес к актуальным экологическим проблемам и обладают знанием большинства соответствующих практик. Однако применяют их преимущественно эпизодически. Несмотря на это, такие действия получают одобрение со стороны сверстников, выступающих значимой «группой равных» (Peer Group) в процессе социализации. К основным факторам, формирующим представления о целесообразности экологически ориентированного поведения, относят социальные сети, средства массовой информации и опыт друзей/знакомых. По мнению исследователей, средства массовой коммуникации (социальные сети, мессенджеры) являются одним из ключевых институциональных факторов формирования представлений молодёжи об экологической обстановке в стране. Это обусловлено отсутствием полноценно функционирующей системы экологического просвещения, которая могла бы служить альтернативным источником информации [9].
Поднимая вопрос роли средства массовой коммуникации и социальных сетей в жизни современной молодёжи, следует отметить и более активное распространение практик цифрового активизма. Их суть заключается в освещении глобальных экологических проблем или тех, которые актуальны для места проживания индивида, в проявлении гражданского активизма посредством сбора данных о состоянии окружающей среды (например, измерение уровня загрязнения воздуха приборами), в подписании петиций на различных платформах. Вместе с тем цифровое развитие позволяет классифицировать экологическое поведение по форме его проявления: на непосредственные действия, требующие физического участия, усилий и временных затрат, и опосредованные — реализуемые в реальном времени без физических и иных затрат. Последние, по мнению В.Б. Гольбрайха [10], можно отнести к так называемому «ленивому активизму». Использование технологий для выражения мнений по вопросам, представляющим важность, актуализирует вопрос воспроизводства цифрового неравенства, когда пожилые или проживающие в отдалённых местностях и сёлах люди не имеют возможности принять участие в данных практиках.
Отдельное внимание со стороны исследователей уделено и выделению типов экологической культуры в зависимости от уровня сформированности её основных компонентов. Так, P.C. Stern [8] выделяет переменные, обусловливающие экологическое поведение индивидов:
- нормы, убеждения, ценности и установки индивида;
- институциональные возможности ведения проэкологической деятельности и связанные с этим ограничения;
- личные способности индивида;
- привычка/традиция — рутинизация действий индивида.
П.О. Ермолаева [11], учитывая результаты исследования с участием российских и американских студентов, выделяет следующие социально-экологические типы:
- инвайроменталист — готовность поддерживать любые инициативы в деле охраны окружающей среды (28%);
- деятельный тип — активен и решителен в области сохранения окружающей среды (19%);
- декларативный тип — наличие экологических установок на уровне оценок, но не действий (33%);
- антиинвайроменталист — низкая степень обеспокоенности состоянием окружающей среды (20%).
В.А. Захарова [12, 13] выделяет три группы факторов, влияющих на экологизацию поведения молодых людей:
- ценностные (ценностные установки и экологические ценности);
- институциональные (экологическое просвещение и образование, средства массовой информации, экологическая политика государства);
- окружающего воздействия (опыт семьи, друзей).
Кроме того, она выделяет три типа экологической культуры:
- формально-декларативный (45%);
- сознательно-ответственный (37%);
- индифферентный (18%).
Возникает исследовательский вопрос: каков характер экологической культуры современной молодёжи и под воздействием каких факторов происходит её формирование и развитие?
Цель
Раскрыть характер и содержание компонентов экологической культуры молодёжи (сознания и поведения), а также опыт экологизации их собственной жизни в современном обществе (на примере Республики Татарстан).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведение эмпирического исследования включало две стратегии:
- количественную — массовый онлайн-опрос молодёжи Республики Татарстан, проведённый в июне 2023 г. (n=1349);
- качественную — фокус-групповые обсуждения, проведённые в 2023–2024 гг. (n=6).
Использование количественных методов обусловлено целью охарактеризовать компоненты экологического сознания и поведения исследуемой группы, поскольку ранее подобных исследований не проводили. Анкета массового опроса включала 22 вопроса, направленных на выявление иерархии ценностей молодых людей, изучение опыта участия в эколого-просветительских мероприятиях и приобщения к экологическим практикам, а также факторов, обусловливающих тип поведения индивида по отношению к окружающей среде (условия участия в мероприятиях, существующие институциональные и неинституциональные барьеры). Блок социально-демографических вопросов ограничен полом, возрастом, типом населённого пункта (по данным переменным осуществляли контроль признаков репрезентации на основе актуальных данных Республики Татарстан), а также видом деятельности респондента.
Обсуждения в рамках фокус-групп позволили получить мнения молодёжи относительно практик экологизации собственной повседневной жизни и существующих институциональных и неинституциональных препятствий.
Статистический анализ
Доступная выборка сформирована неслучайным методом отбора (n=1349 при принятом уровне доверительного интервала в 95%). Обработку и анализ данных проводили в статистическом пакете SPSS® Statistics v23.0 (IBM, Соединённые Штаты Америки). В работе использовали частотный анализ и статистический критерий χ2 Пирсона для проверок гипотез о связи переменных.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Экологическая культура — совокупность действий социальных агентов, направленных на минимизацию вреда, наносимого окружающей среде, и обусловленная уровнем экологического сознания, установками и ценностями конкретного агента, а также социоструктурными факторами. Стоит отметить, что существенная разница в определении экологической культуры молодёжи отсутствует, поскольку различия обусловлены лишь особенностями и характерными чертами данной социально-демографической группы. В исследовании мы придерживаемся устоявшегося как в западной, так и отечественной социологии подхода, интерпретирующего экологическую культуру как образование, состоящее из двух компонентов — экологического сознания и поведения. Понимание экологического сознания сводится к комплексу знаний, ценностных представлений, установок индивида, обеспокоенного состоянием окружающей среды, позволяющий давать объективную оценку экологической ситуации и выражающий готовность к проэкологическим действиям. Экологическим же поведением является форма взаимодействия с окружающей природной средой, зависящая от:
- уровня развития экологического сознания;
- институциональных возможностей реализации данного взаимодействия, которая отражается в непосредственных/опосредованных действиях индивида.
Экологизация сознания и ценностных ориентиров является базовым компонентом экологической культуры молодёжи. Для понимания иерархии ценностей молодых людей и выяснения того, какое место в ней занимает экологическая ситуация, респондентам задан вопрос о важных аспектах их жизни. Большинство опрошенных считают таковым:
- безопасность членов семьи (84,1%);
- состояние их здоровья (77,1%);
- отношения в семье (67,5%).
Экологическая ситуация в месте проживания занимает четвёртую позицию (65,8%), за ней следуют социальная инфраструктура и возможности для достижения поставленных целей — 62,1 и 56,2% соответственно. Сравнение результатов по возрастным группам показывает, что для респондентов в возрасте 16–25 лет наибольшую важность имеют возможности для достижения поставленных целей (61%) и творческой самореализации (57,5%). Это, вероятно, связано с их промежуточным положением между зависимостью и отсутствием ответственности и свободой, сопряжённой с необходимостью отвечать за свои поступки. Также интересно, что у респондентов, имеющих свои собственные семьи, наблюдают более высокий процент ответов, связанных с семейными ценностями, по сравнению с теми, кто проживает с родителями или один. Обсуждения в фокус-группе подтвердили полученные данные. Участники отмечали важность семейных и общественно значимых ценностей. Так, одна из участниц отметила: «Ну, конечно, одна из ценностей — это семейные ценности, возможность создать и сохранить семью» [женщина (Ж), 24 года]. Другой информант заявил: «Я считаю, что человек должен своей деятельностью принести какую-либо пользу обществу… какое-нибудь новшество внести, что-нибудь новое придумать, что мне тоже хотелось бы сделать» [мужчина (М), 23 года]. Также выражена мысль о значимости воспитания через личный пример: «Вот я воспитываю ребёнка и понимаю, что мне нужно учить его — где-то личным примером, где-то своим опытом, в том числе и заботе об окружающей среде» (Ж, 29 лет).
Большинство респондентов в качестве приоритетных экологических ценностей выделили:
- чистоту водных объектов (81,5%);
- собственное здоровье (75,3%);
- чистоту атмосферного воздуха (74,3%).
Немаловажным опрошенные назвали и экологичный образ жизни общества (51,8%) и повышение внимания к экологическим проблемам (47,7%). В фокус-группе высказывали следующие мнения: «Экологические ценности — это то, что позволяет человеку нормально жить: чистота, свежий воздух, отсутствие грязи или свалок, а мы должны определённым образом способствовать, чтобы все так и было» (Ж, 29 лет). «Наверное, нужно заботиться о том, чтобы будущие поколения не столкнулись с негативными последствиями нашей жизни» (Ж, 23 года). «И было бы здорово сохранять те места, где растут редкие растения, обитают редкие животные» (М, 24 года).
Результаты опроса и фокус-групповые обсуждения демонстрируют, что в сознании молодёжи, согласно теории P.C. Stern [8], преобладают эгоистические и альтруистические экологические ценности, связанные, прежде всего, с заботой о своём здоровье, социальном благополучии и жизни других людей.
Заинтересованность экологической проблематикой среди респондентов находится на достаточно высоком уровне: для 46,1% опрошенных интересны все аспекты, связанные с экологией, тогда как для 42,1% — лишь отдельные вопросы. Распределение ответов на данный вопрос в зависимости от социально-демографических характеристик и других факторов представлено в табл. 1 и на рис. 1.
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос 2 «Интересуетесь ли Вы проблемами экологии?» в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов
Table 1. Distribution of responses to the question 2: “Are you interested in environmental issues?” by social and demographic characteristics of respondents
Вариант ответа Response option | Всего Total | Пол1 Gender1 | Возраст2 Age2 | Тип населённого пункта3 Type of settlement3 | ||||
М M | Ж W | 16–25 лет 16–25 year | 26–35 лет 26–35 year | Казань Kazan | другой город Other city | село Rural area | ||
Интересуюсь, % Interested, % | 46,1 | 42,9 | 49,3 | 41,2 | 49,2 | 39,6 | 47,4 | 52,6 |
Интересны отдельные вопросы, % Interested in selected issues, % | 42,1 | 42,3 | 41,9 | 44 | 40,9 | 49,1 | 40,1 | 36,4 |
Не интересуюсь вообще, % Not interested at all, % | 6,2 | 8,0 | 4,3 | 9,8 | 3,9 | 6,8 | 6,3 | 5,0 |
Затрудняюсь ответить, % Difficult to answer, % | 5,6 | 6,7 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,3 | 6,0 |
Примечание. 1 — χ2=24,231, p <0,001; 2 — χ2=13,222, p=0,004; 3 — χ2=17,156, p=0,009; М — мужчины; Ж — женщины.
Note. 1, χ2 = 24.231, p < 0.001; 2, χ2 = 13.222, p = 0.004; 3, χ2 = 17.156, p = 0.009; M, male; F, female.
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос 2 «Интересуетесь ли Вы проблемами экологии?» в зависимости от типа деятельности респондента и изучения предмета «Экология».
Fig. 1. Distribution of responses to the question 2 “Are you interested in environmental issues?” by respondents’ of activity and whether Ecology was studied.
По данным табл. 1, установлена связь между степенью заинтересованности в экологической проблематике и такими социально-демографическими характеристиками, как пол, возраст и тип места жительства. Для респондентов, проживающих в г. Казани, в большей степени интересны отдельные вопросы, что может быть обусловлено следующим:
- во-первых, обострением одной или нескольких экологических проблем, вызывающих особое беспокойство среди опрошенных;
- во-вторых, бÓльшей по площади территорией с присущей городу гетерогенностью.
В сельских населённых пунктах ситуация обстоит иначе — большинству (52,6%) интересна экологическая тематика в целом. Различия в ответах респондентов в зависимости от типа населённого пункта позволяют говорить о проявлении экологической (или средовой) идентичности — эмоционального, физического и иного соотнесении себя с природной средой, выражающегося в восприятии экологических проблем своего места проживания, трансформации практик и образа жизни. В данном контексте можно также говорить о функционировании уже не индивидуального, а группового экологического сознания.
В числе факторов, способствующих экологизации сознания молодёжи, наряду с типом деятельности и изучением предмета «Экология», следует рассматривать и социальных акторов, благодаря которым получены экологические знания. Наибольшее влияние, согласно результатам опроса, оказали:
- интернет-ресурсы и социальные сети — 44,3% (16–25 и 26–35 лет — 50,2 и 40,7% соответственно);
- семья и родственники — 41,8% (16–25 и 26–35 лет — 41 и 42,3% соответственно);
- средства массовой информации — 32,8% (16–25 и 26–35 лет — 33,8 и 31,8% соответственно).
Личную инициативу в освоении экологических знаний отметили 46,9% представителей старшей возрастной группы и 32,7% — младшей. Подобные мнения отмечены в фокус-групповых обсуждениях: «В Youtube и на других платформах есть блогеры, которые показывают то, как убираются либо в своих сёлах, либо в других места» (Ж, 24 года). Отдельное внимание информанты уделяли значению институционального и семейного воспитания: «Вот это приобщение к экологическим знаниям, ценностям — это же как воспитание, где важна роль и семьи, и школы, ведь там закладываются эти ценности, да и общая культура тоже» (Ж, 33 года).
Осознают респонденты и свою личную сопричастность к решению экологических проблем. Так, одна из участниц фокус-группы отмечает: «Я думаю, что, если мы говорим про какие-то экологические практики, то это, в первую очередь, осознанность в их выполнении и понимании того, для чего это всё делается» (Ж, 21 год). Эти суждения находят подтверждения и в результатах количественного опроса: 94,2% респондентов считают, что заботу об окружающей среде следует начинать с себя. В то же время молодые люди подчёркивают значимость ответственности со стороны институциональных акторов, прежде всего государства и промышленных предприятий: «Государство тоже должно быть ответственно перед людьми, ведь у нас есть законы, требования какие-то, которые предъявляются производствам…они тоже должны исполняться» (М, 20 лет).
Участие в экологических мероприятиях является одной из форм проявления экологического поведения. В российском обществе оно, как правило, носит эпизодический характер, а его своеобразным «триггером» зачастую выступают экологические катастрофы или неудовлетворительное состояние окружающей среды. Тем не менее 54% опрошенных в последние три года принимали участие в экологических мероприятиях, а среди тех, кто ранее не участвовал, 70,3% желают присоединиться к ним в будущем. Распределение ответов в зависимости от социально-демографической характеристики респондентов продемонстрировано в табл. 2 и 3. На рис. 2 представлены мероприятия, в которых опрошенные принимали участие.
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос 6 «Принимали ли Вы участие в экологических мероприятиях в последние три года?» в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов
Table 2. Distribution of responses to question 6 “Have you participated in environmental activities in the past three years?” by social and demographic characteristics of respondents
Вариант ответа Response option | Всего Total | Пол Gender | Возраст Age | Тип населённого пункта1 Type of settlement1 | ||||
М M | Ж W | 16–25 лет 16–25 year | 26–35 лет 26–35 year | Казань Kazan | другой город Other city | село Rural area | ||
Да, % | Yes, % | 54,0 | 52,2 | 55,8 | 51,7 | 55,4 | 48,6 | 54,3 | 60,9 |
Нет, % | No, % | 46,0 | 47,8 | 44,2 | 48,3 | 44,6 | 51,4 | 45,7 | 39,1 |
Примечание. 1 — χ2=10,854, p=0,004; М — мужчины; Ж — женщины.
Note. 1, χ2 = 10.854, p = 0.004; M, male; F, female.
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос 6 «Принимали ли Вы участие в экологических мероприятиях в последние три года?» в зависимости от типа деятельности респондента и изучения предмета «Экология»
Table 3. Distribution of responses to question 6 “Have you participated in environmental activities in the past three years?” by respondents’ type of activity and prior study of Ecology
Вариант ответа Response option | Ваша деятельность (учебная, трудовая)1 Your activity (student or employed)1 | Изучение предмет «Экология» в школе/ССУЗе/ВУЗе2 Studied Ecology in school/college/university2 | ||
Прямо или косвенно связана Directly or indirectly related | Не связана Not related | Да Yes | Нет No | |
Да, % | Yes, % | 62,0 | 49,5 | 60,5 | 43,6 |
Нет, % | No, % | 38,0 | 50,5 | 39,5 | 56,4 |
Примечание. 1 — χ2=19,647, p >0,0001; 2 — χ2=36,927, p >0,0001; ССУЗ — среднее специальное учебное заведение; ВУЗ — высшее учебное заведение.
Note. 1, χ2 = 19.647, p > 0.0001; 2, χ2 = 36.927, p > 0.0001.
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос 7 ««Почему Вы принимали участие в экологических мероприятиях?»
Fig. 2. Distribution of responses to the question 7: “Why did you participate in environmental initiatives?”
Несмотря на то что статически значимые различия по возрасту отсутствуют, восприятие экологических мероприятий среди респондентов различных возрастных групп демонстрирует определённую вариативность. Так, одна из участниц отмечает: «Я бы, наверное, посетила такое мероприятие, если бы там были разные форматы… может быть спикер какой-то выступал бы с интересной для меня темой» (Ж, 23 года). Другие информанты акцентировали внимание на сочетании активного отдыха с экологической повесткой: «Мероприятия действительно представляются как интересные — там есть и походы, и йога, не только сбор мусора, но и что-то другое» (Ж, 20 лет). Кроме того, обозначена потребность в переосмыслении форм экологического участия: «Я думаю, что экологические мероприятия тоже могут разными… например, я могу пойти на уборку озера, а могу написать обращение, подписать петицию, чтобы что-то поменять, и тоже непонятно, что будет действеннее» (Ж, 33 года).
В связи с этим важно рассмотреть условия, при которых респонденты готовы принять участие в экологических мероприятиях (табл. 4). Наибольшее значение имеют место (70,4%), время (64,3%) и характер основной деятельности (47,2%). Определяющими условиями участия в активности стали трансфер до места проведения (3,79%), посещение мероприятия родными и друзьями (3,45%). Такие утилитарные факторы, как получение личной выгоды или денежного вознаграждения оказались непопулярны у респондентов.
Таблица 4. Распределение ответов на вопросы 9 и 10 «Выберите важные для Вас факторы, если бы Вы согласились принять участие в экологическом мероприятии» и «Оцените по 5-балльной шкале степень значимости условий, при которых Вы бы приняли участие в экологическом мероприятии»
Table 4. Distribution of responses to the questions 9 and 10: “Select the factors that would be important to you if you were to participate in an environmental initiative” and “Rate on a 5-point scale the importance of conditions under which you would be willing to participate in an environmental initiative”
Фактор Factor | % | Условие Condition | Средняя оценка Mean rating |
Место проведения Location of the event | 70,4 | Трансфер до места проведения Transfer to the event venue | 3,79 |
Время проведения Timing of the event | 64,3 | Посещение мероприятия моими родными и друзьями Attendance by my friends or family | 3,45 |
То, чем я буду там заниматься Type of activity involved | 47,2 | Раздаточный материал Printed handouts | 3,25 |
Продолжительность мероприятия Duration of the event | 41,6 | Организация пикника по завершении мероприятия Picnic at the end of the event | 3,24 |
Формат мероприятия Format of the event | 41,2 | Получение скидочной карты или купона в магазины, на заправку Discount card or coupon (store/fuel) | 3,04 |
Организатор мероприятия Event organizer | 18,2 | Проведение лекции по экологии, психологии, ментальному здоровью Lecture on ecology, psychology, or mental health | 2,98 |
Получение личной выгоды Personal benefit | 11,4 | Получение денежного вознаграждения Monetary reward | 2,88 |
Участие известного артиста или коллектива Appearance of a celebrity or famous group | 2,57 |
Мотивы участия в экологических мероприятиях можно классифицировать по типу ценностных ориентиров:
- эгоистические;
- альтруистические;
- биосферические.
Наиболее распространёнными основаниями участия среди молодых людей были обеспокоенность состоянием окружающей среды (46,6%), стремление выразить гражданскую позицию (43,8%) и осознание угрозы здоровью, связанной с экологическими проблемами (41,6%). У респондентов в возрасте 26–35 лет дополнительно отмечена значимость заботы о социальном благополучии своих детей (35,7%).
Анализ распределения ответов в зависимости от типа населённого пункта позволяет выявить определённые различия в мотивации участия в экологических мероприятиях. Так, стремление выразить гражданскую позицию наиболее характерно среди респондентов, проживающих в г. Казани, что может свидетельствовать о наличии в мегаполисе устойчивых низовых экологических объединений, направленных на решение актуальных экологических проблем (например, ООС «За Чистый воздух»). В то же время обеспокоенность состоянием окружающей среды и ориентация на опыт родительской семьи чаще отмечается жителями сельской местности (51,6 и 22,3% соответственно).
Наряду с альтруистическими и биосферическими основаниями, фиксируют и эгоистические мотивы участия, связанные с получением личной выгоды. Так, одна из участниц сообщила: «Я помню, что участвовала в чём-то на 1 курсе, но лишь потому, что там давали баллы как активисту, чтобы остаться жить в общежитии. Потом они стали не нужны, и я больше не ходила» (Ж, 21 год). Аналогичная мотивация обозначена и другим информантом: «Ну если брать школу, то там освобождали от уроков, чтобы пойти на какое-то мероприятие такого плана» (М, 20 лет).
Ещё одной формой реализации экологического поведения является приобщение к практикам. Наиболее популярными среди опрошенных были:
- выключение электроприборов из сети (60,9%);
- сдача опасных отходов (батареек, ламп) в специализированные пункты приёма (53%);
- экономия воды (49,6%).
Несмотря на относительно недавний характер распространения экологических практик, их реализация оказалась выше среди респондентов в возрасте 26–35 лет по сравнению с молодёжью 16–25 лет. Так, экономию электроэнергии практикуют 65,4 и 56,5% соответственно, использование многоразовых сумок (шопперов) — 36,4 и 22,7% соответственно и т. д. Обсуждения в фокус-группе позволили сделать вывод о том, что молодёжь настроена вносить малый, но ценный вклад в дело охраны окружающей среды посредством реализации практик, не требующих преодоления институциональных барьеров и ограничений. Так, одна из участниц отметила: «Я стараюсь собирать какие-то мелкие пластиковые фракции — это могут быть чеки из магазинов, которые я стараюсь вообще не брать, упаковки от лекарств, пластинки таблеток и ещё всякое разное» (Ж, 23 года). Другой информант акцентировал внимание на вторичном использовании вещей: «Часто сдаю старую одежду куда-либо… или на переработку, или нуждающимся. Я поддерживаю вторичное использование, например кастомизацию вещей" (Ж, 21 год). Ещё один участник подчеркнул важность раздельного сбора отходов: «Я сдаю батарейки и считаю это самым главным, ведь их в нашей жизни много» (М, 24 года).
Дискуссионным остаётся вопрос об истинных мотивах приобщения к экологическим практикам — влияние оказывают экологические или экономические установки? Однозначного ответа на данный вопрос не существует, что подтверждают и данные фокус-групп. Так, один из информантов отметил: «Мама часто говорит, чтобы я выключала свет в комнате, ведь счётчик мотает не знаю как» (М, 20 лет). Другой участник также подчеркнул экономический аспект повседневного поведения: «Приходит счёт-фактура, и понимаешь, что экономить воду и свет это не только экологично…» (М, 22 года). Третья участница обратила внимание на внутренние противоречия: «Если честно, у меня в голове постоянно вопрос, когда я где-то выключаю свет — я это сделала, чтобы сэкономить или чтобы как-то помочь экологии?» (Ж, 31 год). Дополнительную информацию вносит распределение ответов респондентов по уровню дохода: опрошенные со средним и высоким доходом чаще реализуют практики экономии ресурсов (воды и электроэнергии), чем респонденты с низким уровнем дохода.
Несмотря на достаточно высокую степень вовлечённости молодёжи в экологические мероприятия, среди них сохраняются определённые барьеры, препятствующие более активному участию. Согласно данным опроса, основными ограничениями являются:
- отсутствие информации о планируемых мероприятиях (48,9%);
- удалённость места проведения (36,8%);
- неудовлетворительный уровень организации мероприятия (32%).
Вместе с тем анализ данных фокус-групп выявил и другие, менее очевидные причины. В частности, существует непонимание значимости подобных мероприятий, обусловленное ощущением их низкой результативности и символичности: «Иногда вообще не понимаешь, зачем туда идти. Ну приду я туда один — и что я поменяю? Это же «капля в море». Государство тоже должно это всё как-то стимулировать» (М, 18 лет). Кроме того, отмечено отсутствие внутренней мотивации, обусловленное неясностью цели участия: «Вот лично у меня нет какой-то мотивации. Я сам иногда задаю себе вопрос: ну зачем я туда приду, что я там буду делать? Самое главное — для чего?» (М, 22 года).
Препятствия для реализации экологических практик среди молодёжи могут быть классифицированы по нескольким направлениям.
Отсутствие мотивации в связи с формальным подходом к организации данного процесса. Участники фокус-группы выражали сомнения в эффективности собственных действий: «Даже если я начну сортировать мусор по фракциям, всё равно ведь приедет один мусорный КамАЗ и всё свалит в одну кучу… особенно это видно, когда живёшь в многоквартирном доме» (Ж, 20 лет). Кроме того, упоминают нехватку разъяснительной информации и неуверенность в правильности собственных действий: «Мне не хватает объяснений, почему нужно сортировать мусор, что это даст… есть у меня, например, какой-то фантик — куда я его выброшу? В пластик или в несортируемые отходы?» (М, 23 года).
Недостаток инфраструктуры. Дефицит условия для сортировки и сдачи отходов на переработку стал одним из наиболее часто упоминаемых ограничений: «Есть ощущение, что не хватает для всего этого инфраструктуры в городе, чтобы что-то сдать нужно ехать в какое-то определённое место» (Ж, 22 года). «Очень усложняет этот процесс, что пункты сбора вторсырья организуются в одном месте, в последнее время в МЕГЕ» (М, 25 лет). «Меня стимулировало сортировать мусор то, что я работал в ИКЕА, но она ушла и это всё сошло на нет» (М, 23 года). «После пандемии этих пунктов как будто бы стало меньше, неужели их никто не поддерживает? Не выделяет на это финансирование?» (Ж, 31 год). Следует отметить, что инфраструктура выполняет двойственную роль: при её наличии отмечают рост вовлечённости (например, сбор батареек при наличии контейнера в подъезде), однако её отсутствие приводит к отказу от экологических практик.
Экономические барьеры, связанные с недостатком инфраструктуры. Некоторые участники отмечали, что участие в экологических инициативах сопряжено с затратами времени, сил и ресурсов: «Чтобы довезти собранный мусор до точки сбора нужно пользоваться такси, поскольку в общественном транспорте с этим ехать невозможно» (Ж, 26 лет). «Есть, конечно, места, где отходы принимают платно, но до туда и доехать нужно, и пересилить себя… часто они находятся рядом с какими-то гаражами, одной туда идти страшно» (Ж, 22 года). «Я стараюсь собрать как можно больше отходов, чтобы отвезти их один раз, а то это и трата бензина, и времени» (Ж, 33 года).
Отсутствие общественного контроля и поддержки. Низкий уровень нормативного давления и дефицит примеров подражания также ослабляют мотивацию: «Когда ты понимаешь, что делаешь это не один, а допустим всем двором, то как-то становится легче, а за этим никто же не следит» (Ж, 19 лет). «У нас вообще в стране не такой жёсткий контроль за этим, как в других странах… нет штрафов, нет какого-то общественного порицания что ли за невыполнение всего этого» (М, 23 года). «Я думаю, в нашем обществе это пока не так распространено, как хотелось бы… кому-то просто некогда, кто-то не понимает зачем это, а кто-то и вовсе относиться к этому скептично, с недоверием что ли… особенно, мне кажется, старшее поколение» (Ж, 30 лет).
Помимо этого, приобщение к экологическим практикам и участие в мероприятиях требует трансформации привычного образа жизни. Участники фокус-группы подчёркивают, что следование экологическим установкам сопряжено с определённым бытовым дискомфортом и требует устойчивой внутренней мотивации: «Ну вот я представляю, что какой-то человек всё отсортировал, сделал несколько пакетов как положено и несёт их, условно, с 8-го этажа, чтобы выбросить правильно. Ну насколько его хватит?» (Ж, 18 лет). Некоторые информанты указывают на необходимость личного осмысления и внутреннего принятия смысла данных действий: «Мне кажется, что важно осознать, для чего я это делаю, задать самому себе вопросы: Зачем? Для чего? Что это даст? и ответить на них» (М, 23 года). Кроме того, участие в мероприятиях рассматривают как нагрузку на личное время: «Вот взять те же мероприятия… на них идти либо после работы, либо в выходные дни, а кому это охота делать… как будто бы немногим и тем, для кого это действительно важно» (Ж, 27 лет). В связи с этим можно рассмотреть теории рационального выбора, при которых индивид отдаст предпочтение альтернативным стратегиям, не требующим затраты больших ресурсов (физических, экономических и т. д.). Однако если экологическое поведение ассоциировано с экономией (например, снижение расходов на воду и электричество), то рациональное поведение, напротив, способствует его выбору, превращаясь в дополнительный стимул.
Преодоление выявленных барьеров связано с векторами экологической политики Республики Татарстан и деятельностью профильных ведомств, а также органов региональной и муниципальной власти. Важным условием выступает развитие специализированной инфраструктуры, поддержка некоммерческих организаций и гражданских инициатив, занимающихся, в частности, организацией системы вторичной переработкой отходов. Эти меры позволят сформировать устойчивые модели проэкологического поведения. Согласно теории P.C. Stern [8] «установки–поведение–контекст», даже при наличии проэкологических установок само поведение может быть затруднено при неблагоприятных внешних условиях [14]. Способы преодоления указанных препятствии требуют проведения дополнительного исследования. Однако, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения1, молодёжь среди причин, затрудняющих улучшение экологической ситуации в стране, называет следующие факторы:
- мягкость российских законов (34,9%);
- низкий уровень экологической ответственности граждан (32,6%);
- низкий уровень экологической ответственности предприятий (32,4%).
В то же время, в качестве наиболее действенных мер, способствующих улучшению социально-экологической обстановки, респонденты отмечают:
- обновление технологий и оборудования на предприятиях (34,6%);
- модернизацию системы сбора и переработки отходов (30%);
- повышение экологической грамотности граждан, в том числе и детей (32,1%).
Инициаторами указанных изменений должны выступить крупные промышленные предприятия (40,6%), федеральные власти (32,7%) и органы местного самоуправления (30,6%).
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование компонентов экологической культуры молодёжи Республики Татарстан позволило выявить, что экологическая ситуация, наряду с семейными ценностями, занимает высокие позиции в рейтинге важных сторон жизни. Для респондентов, имеющих собственные семьи, экологическая обстановка приобретает особую важность, поскольку большинство из них принимали участие в мероприятиях с целью заботы о социальном благополучии своих детей. Заинтересованность молодёжи в экологической повестке и вовлечённость в соответствующие мероприятия достигают уровня, при котором возможно осмысленное совершение природосберегающих действий. Установлено, что эти показатели имеют статистически значимую связь с социально-демографическими характеристиками (возраст, пол, тип места жительства), типом деятельности и фактом изучения предмета «Экология». В целом же экологические знания формируют посредством получения информации из интернет-ресурсов, социальных сетей, средств массовой информации и благодаря системе экологического просвещения в школе, средних и высших учебных заведениях. Стоит отметить, что в структуре экологических ценностей молодёжи преобладают эгоистические и альтруистические установки, ориентированные преимущественно на личное благополучие и заботу о других людях. При этом биосферические ценности, отражающие заботу о природе как самоценность, включая сохранение видового биологического разнообразия, выражены в меньшей степени.
Данные опроса свидетельствуют о более высокой степени экологоориентированности молодёжи, проживающей в сельской местности, по сравнению с городскими жителями. Различия выражены в уровне заинтересованности проблемами экологии, вовлечённости в природоохранные мероприятия и характер мотивации к участию в них. Возможные причины выявленных различий включают, во-первых, наличие механизмов быстрой мобилизации социальных ресурсов и коллективного участия в решении важных для местного общества задач; во-вторых, формирование экологической и/или средовой идентичности, основанной на восприятии себя как части природы и ощущении укоренённости в окружающей средой («чувством места»); в-третьих, социокультурные особенности сельского образа жизни, такие как гомогенность сообщества, высокая плотность социальных связей, регулярный контакт с природой др.). Для городских жителей, которые являются гетерогенными и разобщёнными, важность представляет осознание той или иной экологической проблемы, наличие природного объекта (например, конкретный водоём, лесопосадка и т. д.), опыт гражданской активности по защите данных объектов и преобладание эгоистических экологических ценностей, связанных с практиками заботы прежде всего о себе.
Исследование иерархии ценностей молодых людей, мотивов участия в экологических мероприятиях, а также соотнесение полученных результатов с социально-демографическими характеристиками позволяет сделать вывод о том, что предиктором экологически оправданного поведения у работающей молодёжи (26–35 лет) является наличие собственной семьи, её ценность, а также забота о социальном благополучии, включая будущих детей. Экологическое мероприятие воспринимается учащейся молодёжью (16–25 лет) как формат, сочетающий различные виды активностей, не всегда напрямую связанные с экологической повесткой. В то же время работающая молодёжь, как правило, имеет более традиционное понимание, например участие в субботниках. Исследование показывает, что респонденты в возрасте 16–25 лет в большей степени настроены принимать участие в коллективных мероприятиях. Более того, им важно, чтобы данная деятельность была масштабной и объединяла большое количество людей, поскольку у них нет уверенности в том, что действия одного человека окажут влияние на решение глобальных проблем. В свою очередь, среди опрошенных в возрасте 26–35 лет прослеживают тенденцию к индивидуальному характеру данной деятельности, выражающуюся в приобщении и реализации экологических практик. С одной стороны, это может быть связано с личным желанием, а с другой — с тем, что участниками большинства мероприятий, организованных органами государственными власти и общественными объединениями, являются школьники и студенты. Существуют и другие препятствия для реализации практик экологического поведения — это отсутствие мотивации, часто обусловленное непониманием целесообразности данной деятельности; дефицит информации и материалов, посвящённых экологической тематике, несмотря на обилие источников её распространения; а также нехватка инфраструктуры, например для раздельного сбора отходов. Подобные различия между экологическим поведением работающей и неработающей молодёжи могут быть обусловлены, во-первых, разницей социокультурных условий процесса социализации; во-вторых, отсутствием экологических знаний (среди респондентов в возрасте 16–25 лет предмет «Экология» изучали 51,5%, а в возрасте 26–35 лет — 67,5%); в-третьих, вхождением в составы экологических движений, формирующих групповые участие, солидарность, ответственность и экологическое сознание.
Полученные результаты также можно соотнести с выделенными P.C. Stern [8] переменными, обуславливающими экологическое участие:
- нормы, убеждения, ценности и установки: для молодёжи характерен синтез эгоистических, альтруистических и природоохранных ценностей, исходя из которого она совершает те или иные социальные действия. Актуализируются также и неэкологические установки (например, забота о здоровье, получение личной выгоды);
- институциональные возможности и ограничения: при реализации экологических практик существуют мотивационные, экономические и инфраструктурные барьеры. Участию же в экологических мероприятиях препятствуют отсутствие мотивации, информации и личные установки. Инфраструктура является фактором, стимулирующим экологичный образ жизни (её наличие позволяет системно реализовывать данные действия). Значимыми считают действия социальных акторов (например, других граждан, органов государственной власти) и осуществление с их стороны общественного контроля, низкий уровень которого может спровоцировать отказ от экологических практик;
- способности и ресурсы для осуществления экологических действий: сознание молодёжи характеризуется преобладанием ценностей, связанных с семьёй, материальным достатком, карьерным ростом, заботой о будущем своих детей. В свою очередь, понимание экологических ценностей сводится к конкретным действиям, привлечению внимания общества к экологической проблематике и органов государственной власти к устранению ранее выделенных барьеров. Беспокойство экологической ситуацией и соответствующие эмоции вызывают локальные экологические проблемы;
- деятельность молодёжи сводится к реализации экологических практик и участию в мероприятиях, требующих и удовлетворения других потребностей (духовных, социальных, материальных), конкретные действия можно охарактеризовать как ценностно-рациональные (по терминологии М. Вебера). Мотивы ведения экологичного образа жизни являются в основном альтруистическими. Вместе с тем подобный образ жизни требует затрат определённых ресурсов, что позволяет рассмотреть теории рационального выбора (например, Дж. Коулмена): с одной стороны, при наличии разного рода ограничений, вероятно, будет избрана альтернативная стратегия поведения, которая не требует больших усилий и затрат, с другой — с учётом хозяйственно-экономических целей индивид выполняет экологически оправданные действия (например, экономии воды, электроэнергии).
- рутинизация действий: систему экологических практик, реализуемых продолжительное время, можно рассматривать в качестве традиции или привычки, совершаемой ежедневно. Это, в свою очередь, позволяет говорить о формировании, во-первых, габитуса, а, во-вторых, соответствующего стиля жизни (по терминологии П. Бурдье).
Ограничения исследования
Сбор анкетных данных проводили в онлайн-формате, что предполагает ограничения, связанные с проблемами цифрового неравенства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты опроса, проведённого среди молодёжи Республики Татарстан, показывают, что в условиях современного общества, характеризующегося множеством рисков, экологическая ситуация воспринимается как важная и оказывает влияние на повседневную жизнь, включая состояние здоровья. Можно утверждать, что у молодых людей происходят процессы экологизации сознания, о чём свидетельствуют распространённость соответствующих ценностей, устойчивый интерес к экологической повестке, обеспокоенность состоянием окружающей среды, её критическая оценка, а также осознание личной ответственности за её сохранение. Формированию этих компонентов в наибольшей степени способствуют информация, получаемая из открытых источников, влияние родительской семьи, а также наличие личного опыта и условий для совершения экологически оправданных действий. Экологическая культура в поведенческой сфере характеризуется высоким уровнем экологизации более половины опрошенных и высокой готовностью к ней в условиях обозначенных респондентами проблем с инфраструктурой физического пространства. Молодые люди склонны к традиционным формам экологического активизма, требующих физических и временных затрат, несмотря на их трансформацию и переход к онлайн-практикам, обусловленных использованием социальных сетей и освещением в них экологических проблем. Установлены различия в выборе молодёжью индивидуальных и коллективных стратегий приобщения к проэкологическому образу жизни: с возрастом участие в экологических практиках становится более регулярным. Помимо этого, факторами, определяющими разнообразие путей экологизации, выступают социально-демографические характеристики, такие как возраст, тип поселения, гендер, уровень дохода и наличие экологических знаний.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Ж.В. Савельева — разработка теоретико-методологических основ исследования, аналитический обзор, формулировка выводов, подготовка текста к публикации; А.А. Хохлов — сбор и анализ эмпирической информации. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Благодарности. Авторы выражают благодарность Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан за содействие в проведении исследования.
Этическая экспертиза. Выписка из протокола заседания №51 от 07.11.2024.
Источник финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Все данные, полученные в настоящем исследовании, доступны в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author сontributions: Zh.V. Savelyeva: conceptualization, methodology, formal analysis, writing—original draft, writing—review & editing; A.A. Khokhlov: investigation, formal analysis. All authors approved the version of the manuscript to be published and agree to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Acknowledgments: The authors express their gratitude to the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Tatarstan for their support in conducting the study.
Ethics approval: Extract from the minutes of the meeting No. 51 dated November 07, 2024.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: All data generated during this study are available in this article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Экологическая ситуация в России: мониторинг; [около 2 страниц]. В: Официальный сайт ВЦИОМ. 2023–2025. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologicheskaja-situacija-v-rossii-monitoring-20230309 Дата обращения: 09.04.2025.
About the authors
Zhanna V. Saveleva
Kazan (Volga Region) Federal University
Author for correspondence.
Email: gedier@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1465-0664
SPIN-code: 6808-3803
Scopus Author ID: 57202516186
ResearcherId: S-4460-2016
Dr. Sci. (Sociology), Associate Professor
Russian Federation, KazanAlexey A. Khokhlov
Kazan (Volga Region) Federal University
Email: X_alesha@mail.ru
ORCID iD: 0009-0006-6484-7026
SPIN-code: 2254-9201
Russian Federation, Kazan
References
- Hickman C, Marks E, Pihkala P, et al. Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. The Lancet Planetary Health. 2021;5(12):e863–e873. doi: 10.1016/s2542-5196(21)00278-3EDN: NNGEWS
- Denault AS, Bouchard M, Proulx J, et al. Predictors of pro-environmental behaviors in adolescence: a scoping review. Sustainability. 2024;16(13):5383. doi: 10.3390/su16135383 EDN: IAXBOK
- Nazneen L, Asghar M. Parental modeling, a determinant of pro-environmental attitude and behavior in youth. Peshawar Journal of Psychology and Behavioral Sciences (PJPBS). 2018;4(1):33–43. doi: 10.32879/picp.2018.4.1.33
- Tam KP. Dispositional empathy with nature. Journal of Environmental Psychology. 2013;35:92–104. doi: 10.1016/j.jenvp.2013.05.004
- Casaló LV, Escario JJ. Intergenerational association of environmental concern: Evidence of parents› and children›s concern. Journal of Environmental Psychology. 2016;48:65–74. doi: 10.1016/j.jenvp.2016.09.001
- Lovochkina A, Otych D, Spivak L. Formation of students’ environmental awareness through social media. Conhecimento & Diversidade. 2023;15(36):556–569. doi: 10.18316/rcd.v15i36.10973 EDN: VVEGCN
- Sanchez M, Lafuente R. Defining and measuring environmental consciousness. Revista Internacional de Sociologia. 2010;68(3):732–755. doi: 10.3989/ris.2008.11.03
- Stern PC. New Environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues. 2000;56(3):407–424. doi: 10.1111/0022-4537.00175
- Shutaleva A, Martyushev N, Nikonova Z, et al. Environmental behavior of youth and sustainable development. Sustainability. 2021;14(1):250. doi: 10.3390/su14010250EDN: RUCIXU
- Golbrajh VB. Environmental activism: new forms of political participation. Power and elites. 2016;3:98–120. (In Russ.) doi: 10.31119/pe.2016.3.4
- Ermolaeva P. Environmental practices among the USA and Russian students: cross cultural analys. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP). 2011;5(2):364–384.
- Zakharova VA. Ecologization of social behavior and formation of ecological culture of modern Russian youth in the context of civil society development. Humanities of the South of Russia. 2020;9(1):178–187. doi: 10.19181/2227-8656.2020.1.13 EDN: DPDOTG
- Zaharova VA. Environmental behavior of modern youth: all-Russian and regional trends: monograph. Мoscow: RUSAJNS, 2023. (In Russ.) ISBN: 978-5-466-03260-4
- Ermolaeva PO, Ermolaeva YV. Critical analysis of foreign theories of environmental behavior. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2019;(4):323–346. doi: 10.14515/monitoring.2019.4.16 EDN: VUDGPJ
Supplementary files