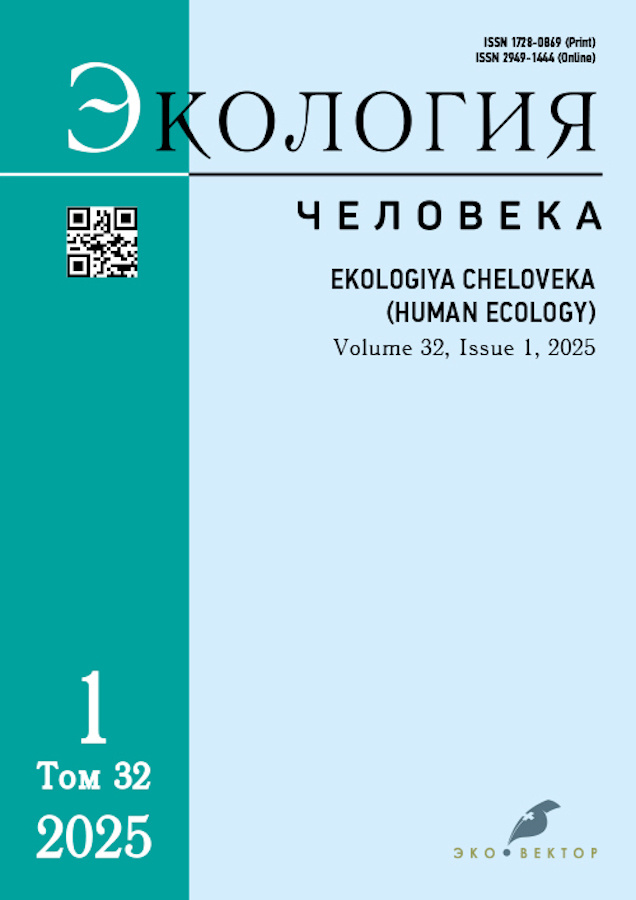Joint cognitive task strategies in participant dyads with different personality profiles
- Authors: Murtazina E.P.1, Ermakova O.I.1, Pertsov S.S.1
-
Affiliations:
- Federal Research Center for Innovator and Emerging Biomedical and Pharmaceutical Technologies
- Issue: Vol 32, No 1 (2025)
- Pages: 20-31
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 12.02.2025
- Accepted: 04.04.2025
- Published: 19.07.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/655823
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco655823
- EDN: https://elibrary.ru/QWQJYX
- ID: 655823
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: A current issue in social psychophysiology is the investigation of strategies for achieving outcomes in team activities and the factors influencing their selection across various professional domains.
AIM: To identify strategies for achieving joint cognitive task outcomes in dyads of subjects with different personality traits and individual performance indicators.
METHODS: 52 male dyads and 50 female dyads (mean age: 17 years 9 months ± 3 months, dyad members were acquainted with each other) were examined after providing voluntary informed consent. Personality traits were assessed using the Big Five questionnaire. Participants performed the Pattern Recognition test individually, competitively, and cooperatively in dyads.
RESULTS: Joint and separate cooperation strategies were identified, characterized by comparable levels of integral success and similar distribution across the entire sample and within male and female dyad groups. Performance indicators under the two strategies differed in timing and error rates. Compared to the joint strategy, the separate strategy resulted in faster completion and identification of more patterns, but with more errors. Dyads employing the joint strategy demonstrated higher individual error rates, greater error differences between partners, and more similar work pace, compared with those who later adopted the separate strategy. Dyad participants with a joint cooperation strategy exhibited higher baseline levels of the personality traits “agreeableness” and “relaxedness,” and a lower level of activity compared with participants who adopted a separate strategy.
CONCLUSION: The findings contribute to the understanding of strategic choices in team-based intellectual activity and their association with individual partner characteristics. These patterns may serve as a basis for developing methods to select collaborators for achieving integrated results in various fields of activity.
Full Text
Обоснование
Среди основных факторов психосоматического здоровья человека, развития хронических заболеваний у населения выделяют экосоциальные: начиная с социального благополучия в ближайшем семейном окружении, статуса в социальных сетях и заканчивая социально-экономической организацией общества и природных особенностей окружающей среды [1, 2]. Особенно актуально изучение социальных взаимодействий людей с целью обеспечения эффективности деятельности в экстремальных или неблагоприятных условиях, включая работу в коллективах с вахтовым режимом организации труда [3, 4]. Также перспективным направлением исследований совместной деятельности является изучение командной эффективности междисциплинарных бригад, в частности неотложной медицинской помощи, спасательных служб, и при оказании медико-социальной поддержки населению [5–7].
Исследования поведенческих и физиологических механизмов межличностных взаимодействий привлекают внимание специалистов разных областей науки: социологов, психофизиологов, организаторов медицины и практиков, занимающихся повышением эффективности производственных процессов [8, 9].
Сотрудничество даёт значительные преимущества в достижении целей отдельным индивидам и компаниям при недостатке каких-либо собственных компетенций или ресурсов посредством создания альянсов с другими субъектами, обладающими дополнительными навыками или активами [10, 11].
Кооперация требует от партнёров реорганизации своего поведения для координации с другими членами коллектива, группового планирования и выбора стратегий сотрудничества. Под термином «стратегия» понимают генеральную программу действий или набор правил для принятия решений, направленных на достижение цели. Выявляют две основные стратегии кооперации: интеграция усилий субъектов с совместным выполнением общей задачи или разделение её на подзадачи с их параллельным решением [12, 13]. Для эффективного сотрудничества в коллективах формируются функционально-ролевые структуры с композицией или компиляцией ролей участников [9, 14]. Под композицией понимаются структуры, в которых функции их членов имеют значительное сходство между собой, их вклад примерно одинаков. Компиляция предполагает интеграцию различных, несходных между собой ролей.
Показано, что личностные характеристики партнёров имеют высокую значимость для понимания и прогнозирования взаимоотношений, ролевых функций, а также эффективности командной деятельности [15, 16].
Во многих исследованиях совместной деятельности используются задачи, требующие определённого типа межличностных взаимодействий без возможности выбора разных стратегий кооперации. Мало изучена зависимость командной эффективности от типа выбираемых взаимодействий. Недостаточно внимания уделено оценке особенностей формирования разных стратегий кооперации в зависимости от исходных психофизиологических характеристик индивидов.
Цель исследования. Выявить стратегии достижения совместного результата когнитивной деятельности в диадах у испытуемых с различными личностными характеристиками и показателями персональной результативности.
Материалы и методы
С марта 2022 г. по июнь 2023 г. обследованы 204 здоровых испытуемых (средний возраст — 17 лет 9 мес. ± 3 мес.). Исследование одобрено межвузовским комитетом по этике при ассоциации медицинских и фармацевтических вузов (протокол № 3 от 17.02.2022, получен в отделе организации научных проектов и исследовательских программ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова). После ознакомления с особенностями обследования все испытуемые добровольно подписали форму информированного согласия, утверждённую в составе протокола исследования этическим комитетом. Участники, ранее знакомые друг с другом, проходили тестирования в парах одного пола (52 диады мужчин и 50 диад женщин).
Личностные характеристики выявляли по методике «Большая пятёрка», адаптированной А.Б. Хромовым [17]. В качестве модели когнитивной деятельности использовали компьютерный тест, разработанный в лаборатории на основе методики «Установление закономерностей» [18]. На мониторе испытуемым предъявляется матрица с заданным количеством строк, в каждой из которых слева представлено одно эталонное сочетание шести букв латинского алфавита и справа 5 разных шестизначных чисел. Задача испытуемых — последовательно просмотреть все строки представленной матрицы, выявляя в них полное соответствие или расхождение между закономерностью расположения повторяющихся или разных букв в эталонном слове и местоположением цифр в пяти числах каждой строки. Участники должны отметить все цифровые группы с помощью левой или правой клавиши компьютерной мышки на наличие или отсутствие в них закономерностей. Каждое действие испытуемого (клики на левую или правую кнопки мышки по всем отдельным цифровым группам во всех строках матрицы одного тестового задания), правильность выбора соответствия или несоответствия представленным в словах закономерностям и время их осуществления после начала теста фиксировали в отдельный файл для последующего анализа. Выделяли следующие показатели результативности выполнения отдельного задания: общее количество отмеченных цифровых групп (N, максимальное количество — число строк × 5 цифровых групп); суммарное количество верно выявленных закономерностей (З); количество неверно отмеченных цифровых групп (Nош.); количество неотмеченных/пропущенных цифровых групп (Nпроп.); длительность выполнения теста (T); среднее время анализа одной цифровой группы (Тц.гр.=Т/N, с). По этим показателям вычисляли коэффициент успешности (КУ) по следующей формуле:
КУ=N×[(З–Nпроп.)/(З+Nош.)].
При повторных предъявлениях испытуемым данного теста матрицы были сравнимой сложности, но их содержание отличалось, включая другие сочетания букв в эталонных словах и цифр в анализируемых числах всех строк. Это исключало запоминание содержания ранее представленной матрицы.
На индивидуальном этапе испытуемые одновременно проходили тест по одинаковым матрицам за отдельными мониторами, разделёнными перегородками. При тренировочной сессии предъявлялась матрица из шести строк без ограничения по времени, контрольное тестирование испытуемые выполняли по матрице из 12 строк, предъявляемой на 3 мин. Затем перегородки убирали, испытуемых информировали о соревновательном характере задания и необходимости выполнить его быстрее и точнее, чем соперник. Новые матрицы также состояли из 12 строк и предъявлялись на отдельных экранах с ограничением по времени в 3 мин. На следующем этапе испытуемые инструктировались действовать кооперативно, то есть выявлять закономерности вместе в строках новой матрицы, демонстрируемой на одном мониторе компьютера с двумя активными компьютерными мышками. Участники диад сначала обсуждали программу совместных действий, затем проходили сеанс тренировки без временнÓго ограничения по матрице из шести строк. Затем пары участников выполняли контрольное кооперативное задание по новой матрице из 12 строк, предъявляемой на 3 мин.
Статистический анализ и графическое представление данных осуществляли с помощью программ Statistica 12.5 и GraphPad Prism 8. Проверка распределений данных в выборках (по методам Шапиро–Вилкоксона и Колмогорова– Смирнова) выявила их несоответствие параметрам нормальности. Исходя из этого, в дальнейшем использовали непараметрические статистические методы. Различия показателей между группами испытуемых анализировали по критерию Манна–Уитни и с помощью метода Краскела–Уоллиса (KW) с поправкой для множественных парных сравнений.
Результаты
Анализ видеозаписей и пространственно-временны́х паттернов действий партнёров позволил выделить совместную (1) и раздельную (2) стратегии кооперативной деятельности испытуемых в диадах (рис. 1). При совместной стратегии кооперации (А-1 и В-1 на рис. 1) испытуемые сообща последовательно обсуждали и анализировали все цифровые группы каждой строки матрицы. Один из партнёров при этом отмечал мышкой наличие или отсутствие закономерностей после принятия общего решения. Окончание выполнения теста в парах с этой стратегией происходило в нижних строках матрицы.
Рис. 1. Иллюстрации выполнения теста «Установление закономерностей»: фотографии партнёров с совместной (А-1) и раздельной (А-2) стратегиями кооперации; графики последовательных кликов компьютерными мышками в 2-мерном пространстве матрицы теста при совместной (B-1) и раздельной (B-2) стратегиях кооперации. Оси абсцисс — номера цифровых групп в строках, оси ординат — номера строк матрицы, пунктирные линии — траектории переходов нажатий от одной цифровой группы к следующей, стрелки — место окончания выполнения теста.
Fig. 1. Illustrations of the Pattern Recognition Test Performance: Photographs of partners employing joint (A-1) and separate (A-2) cooperation strategies; graphs of sequential mouse clicks in the two-dimensional matrix space of the test under joint (B-1) and separate (B-2) cooperation strategies. The x-axis shows the numbers of digit groups in rows; the y-axis shows the row numbers in the matrix; dashed lines represent the trajectories of transitions between digit groups, and arrows indicate the point at which the test was completed.
При второй стратегии кооперации участники выполняли части задания раздельно, самостоятельно анализируя и отмечая цифровые группы своими компьютерными мышками в отдельных строках матрицы поочерёдно: чётные–нечётные или верхние–нижние (А-2 на рис. 1). При этом на графике пространственного паттерна (В-2 на рис. 1) отражаются переходы действий от одного партнёра к другому (в представленной паре с верхних строк к нижним и обратно). Окончание выполнения задания в представленной паре произошло соответственно в середине матрицы.
Распределения числа пар по всем группам с разными стратегиям кооперации были сопоставимы и достоверно не различались (1 — 52,9%, n=54; 2 — 47,1%, n=48), как и между отдельными группами диад мужчин и женщин (1♂ — 27,5%, n=28; 2♂ — 23,5%, n=24; 1♀ — 25,5%, n=26; 2♀ — 23,5%, n=24).
Достоверных различий значений КУ между группами пар с разными стратегиями кооперации и между всеми подгруппами диад мужчин и женщин не выявлено. Также не обнаружено значимых различий КУ между парами с разными стратегиями кооперации отдельно в мужских и женских выборках.
Обнаружены достоверные различия временны́х характеристик кооперативной деятельности между парами с разными стратегиями кооперации и полом партнёров (рис. 2). Все пары с раздельной стратегией, по сравнению со всеми диадами с совместной стратегией, достоверно быстрее выполняли тест (рис. 2А), просматривая значимо большее число цифровых групп (рис. 2В), затрачивая меньше времени на анализ отдельных чисел (рис. 2С). Такие же различия выявлены между мужскими парами с разными стратегиями, но не между женскими диадами с разными стратегиями кооперации и не между мужскими и женскими парами, действовавшими совместно. Половые различия временны́х характеристик деятельности найдены между диадами, выбравшими стратегию разделения задания на подзадачи: эти пары мужчин быстрее выполняли тест и отметили больше цифровых групп по сравнению с аналогичными парами женщин.
Рис. 2. Диаграммы показателей кооперативной деятельности пар испытуемых: А — общее время выполнения теста «Установление закономерности»; В — суммарное количество отмеченных цифровых сочетаний; С — средняя длительность анализа цифровых групп. По осям абсцисс группы сравнения: 1 и 2 — все пары с разными стратегиями кооперации; ♂1, ♂2, ♀1, ♀2 — мужские и женские диады с разными стратегиями. По осям ординат шкалы показателей. Линии внутри боксов — медианные значения, границы боксов — квартили Q1 и Q3, «усы» — минимальные и максимальные значения, крестики в боксах — средние значения. Достоверность различий: * — между стратегиями (критерий Манна–Уитни) , + — между полом (критерий Манна–Уитни) , # — между всеми четырьмя группами (метод Краскела–Уоллиса). Количество символов соответствует уровням значимости: p <0,05, p <0,01 и p <0,001.
Fig. 2. Diagrams of cooperative performance indicators in participant dyads: A, total time to complete the Pattern Recognition Test; B, total number of identified digit combinations; C, average duration of digit group analysis. On the x-axis comparison groups: 1 and 2 represent all dyads with different cooperation strategies; ♂1, ♂2, ♀1, ♀2 represent male and female dyads with different strategies. On the y-axis: scales of the indicators. Lines inside the boxes represent medians; box edges correspond to Q1 and Q3 quartiles; whiskers indicate minimum and maximum values; crosses inside the boxes denote means. Statistical significance: * between cooperation strategies (Mann–Whitney test), + between sexes (Mann–Whitney test), # across all four groups (Kruskal–Wallis test). The number of symbols corresponds to levels of significance: p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001.
Анализ показателей ошибочности кооперативной деятельности выявил, что пары женщин с совместной стратегией совершают меньше пропусков, по сравнению с аналогичными диадами мужчин (p <0,05) и с женскими парами с раздельной стратегией (p <0,05). Обнаружены половые различия числа неверно выявленных закономерностей (p=0,08) и общего количества ошибок (p <0,10), но вне зависимости от стратегий кооперации: все мужские пары совершали их больше, чем все женские.
Далее проведён сравнительный анализ показателей результативности испытуемых на индивидуальном этапе деятельности и значений их внутридиадических разниц при соревновании между группами участников пар, которые в последующем выбрали разные стратегии кооперации (табл. 1). Обнаружено, что показатели индивидуальной ошибочности и внутридиадические разницы числа ошибок при соревновании были выше у участников с последующей совместной стратегией кооперации, по сравнению с теми, кто выбрал раздельную. Однако у испытуемых с совместной стратегией кооперации внутридиадические разницы количества просмотренных чисел и среднего времени их анализа при соревновании были значимо меньше, чем в парах с раздельной стратегией. Это свидетельствует о том, что пары, выбравшие совместную стратегию кооперации, состояли из партнёров, у которых была большая исходная индивидуальная ошибочность и их разницы при соревновании, но они имели при этом близкий темп деятельности. У участников диад с раздельной стратегией были меньшие значения ошибочности на индивидуальном этапе и их разницы в парах при соревновании, но они больше различались по временны́м показателям индивидуальной и соревновательной деятельности.
Таблица 1. Показатели индивидуальной результативности и внутридиадических разниц испытуемых при соревновании в парах с разными стратегиями последующей кооперации
Table 1. Indicators of individual performance and intra-dyadic differences among participants during competitive tasks in dyads with different subsequent cooperation strategies
Показатели Indicator | Стратегии кооперации | Cooperation strategy | p (критерий Манна–Уитни) p (Mann–Whitney test) | |
1 | 2 | ||
Nпроп. Nomitted | 1,5±0,2 1 (0,0; 2,0) | 1,1±0,3 0 (0,0; 1,0) | 0,019 |
ΔNпроп. ΔNomitted | 2,0±0,3 1 (1,0; 3,0) | 1,7±0,4 1 (0,0; 2,0) | 0,06 |
Nош. Nincorrect | 4,5±0,5 3 (1,0; 7,0) | 2,7±0,4 1 (0,0; 4,0) | 0,048 |
ΔNош. ΔN (incorrectly) | 5,2±0,6 4,5 (1,5; 9,0) | 3,4±0,5 2 (0,0; 4,0) | 0,03 |
N (все ошибки) N (all errors) | 5,9±0,6 4 (1,0; 8,5) | 3,8±0,5 2 (0,0; 6,0) | 0,002 |
ΔN (все ошибки) ΔN (all errors) | 6,0±0,7 5 (1,5; 9,5) | 4,2±0,6 3 (1,0; 5,0) | 0,06 |
ΔN | 8,2±1,0 5 (2,0; 14,0) | 11,3±1,2 10 (5,5; 15,0) | 0,04 |
ΔTц.гр., с ΔTgr. (s) | 0,9±0,1 0,9 (0,3; 1,3) | 1,4±0,2 1 (0,5; 1,6) | 0,08 |
Примечание. N — количество отмеченных цифровых групп; Nош. — количество неверно отмеченных цифровых групп; Nпроп. — количество неотмеченных/пропущенных цифровых групп; Тц.гр. — среднее время анализа одной цифровой группы. Представлены средние значения ± ошибки средних и медианы с квартилями (Q1; Q3); p — достоверность различий между группами с разными стратегиями кооперации.
Note: N, number of identified digit groups; Nincorrect, number of incorrectly identified digit groups; Nomitted, number of omitted/unmarked digit groups; Tdigit group, average time spent analyzing one digit group. Values are presented as means ± standard errors and medians with quartiles (Q1; Q3). p, statistical significance of differences between groups with different cooperation strategies.
Сравнительный анализ личностных характеристик между испытуемыми, которые выполняли когнитивный тест в парах с разными стратегиями кооперации, показал, что для всей выборки участников с совместной стратегией кооперации были характерны бóльший уровень баллов по субшкале «понимание» фактора «доброжелательность» и по субшкале «расслабленность» фактора «нейротизм» пятифакторной модели личности, по сравнению с участниками с раздельной стратегией (рис. 3). У последних были выше баллы по субшкале «активность» фактора «экстраверсия».
Рис. 3. График уровней личностных характеристик испытуемых с совместной (1) и раздельной (2) стратегиями последующей кооперации в диадах. Представлены средние значения с ошибками средних в группах и достоверностью межгрупповых различий: * p <0,1, ** p <0,05.
Fig. 3. Levels of personality traits in participants with joint (1) and separate (2) strategies of subsequent cooperation in dyads. Mean values with standard errors are presented for each group; the significance of intergroup differences is indicated as follows: * p < 0.1, ** p < 0.05.
Совокупные достоверные различия субфакторов «понимание» (stat(KW)=20,01; p <0,001) и «расслабленность» (stat(KW)=23,66; p <0,001) выявлены между всеми четырьмя группами испытуемых: мужчин и женщин с разными стратегиями кооперации. По обеим характеристикам женщины отличались бóльшими значениями баллов по сравнению со всеми мужчинами (p <0,001). При этом выявлены множественные парные различия баллов по субшкале «понимание» между следующими группами участников (Ж1 > [Ж2≈M1] > М2): выше у мужчин с совместной, чем у мужчин с раздельной стратегией (М1 > М2, p <0,05), и выше у женщин с совместной стратегией кооперации по сравнению с мужчинами с той же стратегией (Ж1 > М1, p <0,001). По субшкале «расслабленность» значения баллов имели следующий градиент значимых (p <0,05) межгрупповых различий: [Ж1≈Ж2] > M1 > М2.
Кроме того, выявлены отличия других личностных качеств отдельно в выборках мужчин и женщин с разными стратегиями кооперации в диадах. Мужчины с совместной стратегией имели более высокий уровень значений по субшкалам «поиск впечатлений» фактора «экстраверсия» (p <0,05), «эмоциональная стабильность» фактора «нейротизм» (p <0,1) и были менее доверчивы (субшкала основного фактора «доброжелательность», p <0,05), по сравнению с мужчинами, выбравшими раздельную стратегию. У женщин, выбравших совместную стратегию, были выше показатели по субшкалам самоконтроля фактора «добросовестность» (p <0,05) и сенситивности фактора «открытость» (p <0,1), чем у женщин с раздельной стратегией, которые имели более высокий уровень характеристики по субшкале «чувство вины» фактора «экстраверсия» (p <0,01).
Обсуждение
В результате проведённого исследования показано, что диады испытуемых выбирали две разные стратегии кооперативного выполнения когнитивного задания: совместную или раздельную. Полученные данные согласуются с рядом исследований, в которых также выделены две аналогичные стратегии кооперативной деятельности, первая из которых обозначается как совместная, интегративная или ролевая компиляция, а вторая — как сегрегация функций или композиция ролей партнёров [9, 12–14].
Большинство эмпирических исследований проведены с использованием чётких типов заданий и инструкций, которые предполагают однозначное использование той или иной стратегии взаимодействий в группах. Продемонстрирована зависимость стратегий кооперации от типа решаемых партнёрами задач: в зрительно-пространственных тестах преобладало сотрудничество со стратегией сегрегации, тогда как при необходимости принятия совместных перцептивных решений пары выбирали интегративный тип кооперации [11]. Авторы объясняют эти различия в первую очередь структурой и уровнем сложности задач, от которых зависит возможность отдельных членов группы взять на себя решение части задания, например, пространственное разделение поиска объектов. Также показано, что решение группой аддитивных задач, как правило, осуществляется посредством композиции ролей или сегрегации функций, тогда как выполнение дизъюнктивных и конъюнктивных задач преимущественно происходит с формированием компиляционной функционально-ролевой структуры команды [14].
Нами выявлено, что интегральный показатель успешности не различался между парами с разными стратегиями кооперации. Это свидетельствует о том, что результат командной деятельности одного уровня может быть достигнут разными способами или стратегиями действий участников. Аналогичные данные получены в исследованиях как результативности индивидуальной деятельности человека [19], так и командной эффективности [20]. Такие результаты соответствуют принципу эквифинальности, предложенному Bertalanffy [21] для любых открытых систем, и узловым механизмам теории функциональных систем П.К. Анохина [22].
В нашей работе обнаружено, что эти две стратегии отличались по характеристикам кооперативной деятельности пар. При раздельной стратегии тест выполнялся быстрее, но с большей общекомандной ошибочностью по сравнению с совместной. Этот факт объясняется тем, что при совместной стратегии анализа закономерностей партнёры использовали возможность коммуницирования для принятия общего решения и прихода к согласию. Тогда как при раздельной стратегии этот аспект взаимодействий отсутствовал, партнёры не вмешивались в решения друг друга, только визуально согласовывая двигательный компонент выполнения общего задания (проставление отметок собственной мышкой поочерёдно в своих строках). А время, затрачиваемое партнёром на эти действия, использовалось другим участником для визуального анализа своих строк теста. При этом отсутствие взаимного контроля правильности выявления закономерностей в парах с раздельной стратегией приводило к большей командной ошибочности.
Анализ персональных показателей результативности когнитивной деятельности испытуемых и их исходных личностных характеристик выявил прогностические факторы последующего выбора партнёрами разных стратегий кооперации. Совместную стратегию кооперации преимущественно выбирали испытуемые с более высокой ошибочностью на индивидуальном этапе деятельности и её разницей в паре при соревновании, близким темпом деятельности партнёров и более высокими уровнями оценок по субшкале «понимание других», меньшими значениями по фактору «нейротизм».
Выявленные нами высокие показатели ошибочности при индивидуальной деятельности и их внутридиадические разницы при соревновании в сочетании с меньшей доверчивостью участников пар с последующей совместной стратегией кооперации согласуются с возможным формированием в этих диадах ролевой структуры «лидер–последователь» [23] с дополнительной рациональной возможностью взаимного контроля качества когнитивной деятельности. Более низкие показатели исходной индивидуальной ошибочности, высокое доверие к партнёру и большая разница темпа деятельности других испытуемых могли способствовать тому, что они в последующем выбрали равноправную раздельную стратегию кооперации.
Нами показано, что у участников с совместной стратегией был близкий персональный темп когнитивной деятельности. Это согласуется с исследованиями, в которых доказана роль психологического и нейрофизиологического сходства и различий, а также возможной комплиментарности качеств партнёров в эффективности совместной деятельности [24–26]. Высокая разница темпа деятельности между участниками может также способствовать их стремлению выполнять отдельные части задачи независимо.
Взаимосвязи личностных характеристик индивидов с результативностью командной деятельности показаны во многих исследованиях. Выделяют влияние отдельных черт личности на микроклимат социальных взаимоотношений в коллективе, а других качеств — непосредственно на процессы командных взаимодействий [15]. Обе группы персональных характеристик членов команд прямо или косвенно влияют на эффективность достижения общего результата кооперации. Jolić Marjanović и соавт. [16] приводят результаты исследований взаимосвязей личностных качеств с характеристиками сотрудничества, демонстрирующие, что добросовестность и доброжелательность положительно связаны с качеством выполнения задач, требующих принятия совместных решений. При этом добросовестность в большей степени сказывалась на процессах деятельности команды, а доброжелательность была взаимосвязана с социальными отношениями и ролями в группах. Также показано, что степень экстраверсии значима для позиционирования субъектов внутри группы, а эмоциональная стабильность влияет на сплочённость команды. Такие взаимосвязи объясняются тем, что у людей с большей степенью экстраверсии и доброжелательности сильнее проявляется «эффект Саймона», который отражает способность человека интегрировать представления о действиях партнёров и своих собственных [27].
Нами выявлены половые различия показателей деятельности диад: мужчины совершали большее число ошибок и быстрее выполняли тест, чем женщины, особенно при сравнении пар с раздельной стратегией кооперации. Также обнаружены половые особенности различий личностных характеристик между испытуемыми с разными стратегиями последующей кооперации. Эти результаты согласуются с данными исследований, в которых показано бÓльшее предпочтение к сотрудничеству у женщин, чем у мужчин, склонных к конкурентным взаимоотношениям [28]. Эти половые различия являются результатом формирования разных социальных ролей и функций мужчин и женщин в процессе эволюции человеческих сообществ.
К ограничению исследования следует отнести молодой возраст испытуемых, большинство которых были студентами вузов и имели на момент участия в исследованиях социальный опыт только в семейном общении и в образовательных коллективах. В последующем необходимо провести исследования совместной деятельности мужчин и женщин среднего и старшего возрастов, с бÓльшим социальным опытом в разных сферах профессиональной деятельности. В дальнейшем перспективно проведение лонгитюдных исследований процессов формирования команд, их устойчивого развития на протяжении более длительных периодов времени и по возможности в условиях реальной трудовой деятельности или на основе симуляционных командных тренингов.
Заключение
В результате проведённого исследования выявлены совместная и раздельная стратегии кооперативной когнитивной деятельности пар испытуемых. Распределения числа пар по группам с разными стратегиям кооперации были сопоставимы и достоверно не различались, как и между отдельными выборками диад мужчин и женщин. Не обнаружено отличий значений интегральной успешности пар между группами с разными стратегиями и полом испытуемых. Пары с раздельной стратегией кооперации быстрее выполняли когнитивное задание, но с большей ошибочностью по сравнению с диадами с совместной стратегией.
Выявлены персональные прогностические факторы выбора испытуемыми разных стратегий кооперации в диадах. У партнёров с совместной и раздельной стратегиями значимо отличались исходные показатели индивидуальной результативности, внутридиадические разницы ошибочности и временны́х параметров когнитивной деятельности, а также ряд личностных характеристик.
Показаны половые отличия временны́х характеристик и ошибочности деятельности диад с раздельной стратегией кооперации. Кроме общих для обоих полов психологических характеристик (понимание, расслабленность и активность), дополнительные личностные качества различались между парами мужчин (доверие, поиск впечатлений, эмоциональная стабильность) и диадами женщин (самоконтроль, сенситивность и чувство вины), выбравших разные стратегии кооперации.
Полученные данные могут лечь в основу разработки новых методических подходов к подбору команд с высокой эффективностью совместной деятельности при разных требованиях к характеру её выполнения. Например, при необходимости скорейшего получения результата целесообразнее выбор исполнителей, способных без лишних коммуникаций раздельно выполнить подзадачи для быстрого достижения общей цели. В условиях без временнÓго ограничения и с высокими требованиями к качеству конечного результата необходимо обеспечить совместную стратегию командной работы партнёров, контролирующих действия друг друга, способных к взаимопониманию и схожих по темпу деятельности, для эффективной межличностной координации.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Е.П. Муртазина — сбор и анализ литературных источников, биоинформатический анализ данных, подготовка и написание текста статьи; О.И. Ермакова — проведение обследований, обработка данных; С.С. Перцов — редактирование статьи. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведения исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Исследование одобрено межвузовским комитетом по этике при ассоциации медицинских и фармацевтических вузов (протокол № 3 от 17.02.2022, получен в отделе организации научных проектов и исследовательских программ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова).
Согласие на публикацию. Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.
Источники финансирования. Исследование проведено в рамках Государственного задания.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Благодарность. Авторы выражают признательность Е.С. Галушка и О.М. Зотовой за помощь в проведении обследований.
Additional information
Author сontributions: E.P. Murtazina: formal analysis, writing—original draft; O.I. Ermakova: investigation, data curation; S.S. Pertsov: writing—review & editing. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication).
Ethics approval: The study was approved by the Interuniversity Ethics Committee under the Association of Medical and Pharmaceutical Universities (Protocol No. 3 dated February 17, 2022, obtained through the Department of Scientific Projects and Research Programs of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry).
Consent for publication: All participants provided written informed consent prior to inclusion in the study.
Funding sources: The study was conducted under a State Assignment.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
Acknowledgments: The authors express their gratitude to E.S. Galushka and O.M. Zotova for their assistance in conducting the examinations.
About the authors
Elena P. Murtazina
Federal Research Center for Innovator and Emerging Biomedical and Pharmaceutical Technologies
Author for correspondence.
Email: murtazina_ep@academpharm.ru
ORCID iD: 0000-0002-4243-8727
SPIN-code: 4445-4178
MD, Cand. Sci. (Medicine); Associate Professor
Russian Federation, MoscowOlga I. Ermakova
Federal Research Center for Innovator and Emerging Biomedical and Pharmaceutical Technologies
Email: ermakova_oi@academpharm.ru
ORCID iD: 0000-0003-4860-6151
SPIN-code: 4609-3885
Russian Federation, Moscow
Sergey S. Pertsov
Federal Research Center for Innovator and Emerging Biomedical and Pharmaceutical Technologies
Email: pertsov_ss@academpharm.ru
ORCID iD: 0000-0001-5530-4990
SPIN-code: 3876-0513
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Corresponding Member of the RAS
Russian Federation, MoscowReferences
- Chashchin VP, Kovshov AA, Gudkov AB, Morgunov BA. Socioeconomic and behavioral risk factors of disabilities among the indigenous population in the far north. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2016;23(6):3–8. doi: 10.33396/1728-0869-2016-6-3-8 EDN: VZZFET
- Giesinger I, Buajitti E, Siddiqi A, et al. The association between total social exposure and incident multimorbidity: A population-based cohort study. SSM Popul Health. 2024;29:101743. doi: 10.1016/j.ssmph.2024.101743
- Korneeva Yа, Simonova N. Job stress and working capacity among fly-in-fly-out workers in the oil and gas extraction industries in the Arctic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(21):7759. doi: 10.3390/ijerph17217759 EDN: UGQELN
- Murtazina EP, Korobeynikova II, Poskotinova LV, et al. Analysis of cognitive functions and neurophysiological processes in adaptation of human to conditions of the Arctic region. IP Pavlov Russian Medical Biological Herald. 2023;31(2):293–304. doi: 10.17816/PAVLOVJ109581 EDN: FLNEIA
- Sidorov PI. Mental health service. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2014;21(8):44–56. doi: 10.17816/humeco17215 EDN: SMKJMD
- Andreatta PB, Graybill JC, Renninger CH, et al. Five influential factors for clinical team performance in urgent, emergency care contexts. Military Medicine. 2023;188(7-8):e2480–e2488. doi: 10.1093/milmed/usac269
- Dawe J, Cronshaw H, Frerk C. Learning from the multidisciplinary team: advancing patient care through collaboration. Br J Hosp Med. 2024;85(5):1–4. doi: 10.12968/hmed.2023.0387
- Momennejad I. Collective minds: social network topology shapes collective cognition. Philos Trans R Soc B Biol Sci. 2022;377(1843):20200315. doi: 10.1098/rstb.2020.0315
- Kozlowski SWJ. A multilevel, emergent journey to unpack team process dynamics. Small Group Research. 2024;56(3):487–523. doi: 10.1177/10464964241281347
- Child J, Faulkner D. Strategies of cooperation: managing alliances, networks, and joint ventures. Oxford University Press; 1998. 371 p. ISBN: 10: 0198774842
- Wahn B, Kingstone A, König P. Group benefits in joint perceptual tasks — а review. Ann N Y Acad Sci. 2018;1426(1):166–178. doi: 10.1111/nyas.13843
- Gordon J, Knoblich G, Pezzulo G. Strategic task decomposition in joint action. Cogn Sci. 2023;47(7):e13316. doi: 10.1111/cogs.13316
- Gulati R, Wohlgezogen F, Zhelyazkov P. The two facets of collaboration: cooperation and coordination in strategic alliances. Academy of Management Annals. 2012;6(1):531–583. doi: 10.1080/19416520.2012.691646
- Belousova AK, Kachan YuM. Functional-role distribution of students in the joint solution of problems of different types. Bulletin of Udmurt University. Series Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2024;34(1):26–37. doi: 10.35634/2412-9550-2024-34-1-26-37 EDN: EGZVYT
- Prewett MS, Brown MI, Goswami A, Christiansen ND. Effects of team personality composition on member performance: a multilevel perspective. Group & Organization Management. 2018;43(2):316–348. doi: 10.1177/1059601116668633
- Jolić Marjanović Z, Krstić K, Rajić M, et al. The big five and collaborative problem solving: a narrative systematic review. European Journal of Personality. 2024;38(3):457–475. doi: 10.1177/08902070231198650
- Khromov AB. A five-factor personality questionnaire. Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gosuniversiteta; 2000. 23 p. (In Russ.) ISBN: 5-86328-381-5
- Logutova EV. Diagnosis of cognitive development. Orenburg: OGU; 2021. 142 p. (In Russ.) EDN: MYFXGU
- Umryukhin YeA, Dzhebrailova T D, Korobeynikova II. Individual characteristics of achieving the results of purposeful activity and spectral characteristics of students’ EEG in a pre-examination situation. Psychological Journal. 2005;26(4):57–65. (In Russ.) EDN: HRWFIZ
- Marlin D, Ketchen DJ, Lamont B. Equifinality and the strategic groups — performance relationship. Journal of Managerial Issues. 2007;19(2):208–232. URL: http://www.jstor.org/stable/40604564
- von Bertalanffy L. General system theory: foundations, development, applications. New York: G. Braziller; 1969. 289 p. URL: https://archive.org/details/generalsystemthe0000bert
- Anokhin PK. Fundamental issues of the general theory of functional systems. Moscow; 1971. 61 p. (In Russ.) URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007229347
- Rosing F, Boer D, Buengeler C. When timing is key: how autocratic and democratic leadership relate to follower trust in emergency contexts. Front Psychol. 2022;13:904605. doi: 10.3389/fpsyg.2022.904605
- Wahn B, Czeszumski A, König P. Performance similarities predict collective benefits in dyadic and triadic joint visual search. PLoS ONE. 2018;13(1):e0191179. doi: 10.1371/journal.pone.0191179
- Dziura SL, Hosangadi A, Shariq D, et al. Partner similarity and social cognitive traits predict social interaction success among strangers. Soc Cogn Affect Neurosci. 2023;18(1):nsad045. doi: 10.1093/scan/nsad045
- Varfolomeyeva AV, Tishchenko AG, Aleхandrov YuI. Variants of mutual coordination of individuals with similar and different psychological characteristics. Experimental Psychology. 2024;17(2):84–97. doi: 10.17759/exppsy.2024170205. EDN: DRFEWI
- Campos-Moinier K, Murday V, Brunel L. Individual differences in social interaction contexts: examining the role of personality traits in the degree of self-other integration. Personality and Individual Differences. 2022;203:112002. doi: 10.1016/j.paid.2022.112002
- Paletta P, Bass N, Aspesi D, Choleris E. Sex differences in social cognition. Curr Top Behav Neurosci. 2023;62:207–234. doi: 10.1007/7854_2022_325
Supplementary files