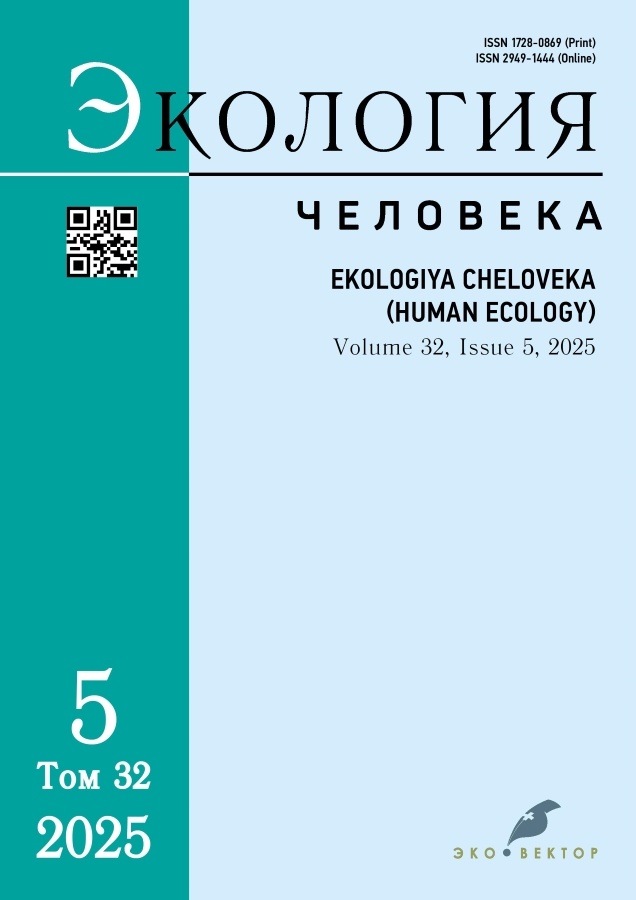Relationship Between Iodine аnd Selenium Deficiency in Soil аnd Incidence of Thyroid Diseases in Population of Central Federal District
- Authors: Starodubov V.I.1, Baranchukov V.S.2, Varavikova E.A.1, Berezkin V.Y.2, Kolmykova L.I.2, Danilova V.N.2, Stupak V.S.1, Yenina E.N.1, Zhuravleva Y.S.1
-
Affiliations:
- Russian Research Institute of Health
- Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 32, No 5 (2025)
- Pages: 353-370
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 24.11.2024
- Accepted: 24.06.2025
- Published: 20.08.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/642094
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco642094
- EDN: https://elibrary.ru/AYFQSN
- ID: 642094
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: In recent decades, there has been an increased incidence of thyroid diseases worldwide. Following the Chernobyl accident, unique environmental and geochemical conditions developed in the Central Federal District, where the thyroid gland was affected by both environmental (microelemental deficiency, primarily iodine and selenium) and man-made (radioisotope contamination) factors. The studies have confirmed the relationship between iodine deficiency in the soil cover of the Central Federal District and the prevalence of thyroid diseases, including cancer. The study provides reliable data to prevent the diseases and to raise diagnostic alerts for the regional healthcare system and allows to develop the appropriate content for the population.
AIM: To analyze regional differences of thyroid disease incidence in the population of the Central Federal District based on its microelemental status.
METHODS: To analyze the population health of the Central Federal District and its constituent entities, we used population data, anonymized data on the number of patients with newly diagnosed thyroid diseases for 2013–2017, and incidence of malignant thyroid neoplasms for 1995–2023. To build a distribution model of microelements in the soil cover of the regions, the Unified State Register of Soil Resources was used. Each soil type–parent rock pair was assigned average content attributes. The reliability of microelemental estimates has been confirmed by field studies. We mapped iodine and selenium status of soils in the studied region. A nonparametric comparison of morbidity rates and map-based estimates was performed using the Spearman’s rank correlation.
RESULTS: An analysis of soil samples collected in 2007–2023 in some regions of the Central Federal District confirmed the correctness of the map-based model of the estimated microelemental composition of soil. We found significant negative correlations (R=-0.473; p=0.055) between the iodine levels in the soils of the Central Federal District and thyroid diseases. For the adult population, we found a positive correlation between radioisotope soil contamination and the incidence of thyroid cancer (R=0.711; p=0.001). In addition, for children (0–17 years), we found a negative correlation (R=-0.375; p=0.138) between the iodine level in soils and the incidence of thyroid cancer. As the selenium level in the soils of the Central Federal District is within the reference range, no relationship was found between the incidence and this microelement level in the soil (R=-0.091; p=0.729).
CONCLUSION: Comparison of geochemical and medical data in the context of spatial heterogeneity of risks associated with the effects of Chernobyl radioactive contamination of soil and natural deficiency confirmed the relationship between iodine deficiency in the environment and health status. There is a need to increase awareness of the population of the Central Federal District and heads of regional executive authorities of the adverse effects of micronutrient deficiency.
Keywords
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Йодный баланс человека, выработка и секреция тиреоидных гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) контролируются щитовидной железой [1]. На выработку гормонов щитовидной железы влияет доступность йода — микроэлемента, который неравномерно распределён на Земле и необходим для синтеза тиреоидных гормонов. Недостаток йода вызывает снижение уровня T3 и T4. Кроме того, появляется всё больше данных, связывающих дисфункцию щитовидной железы с депрессией и тревожными расстройствами, ожирением, метаболическим синдромом, заболеваниями почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями [2].
Йод в организме участвует в различных биохимических реакциях. В частности, под его влиянием усиливаются окислительные процессы, а йодистые металлы инактивируют или тормозят активность многих ферментных систем. Дефицит йода представляет собой наиболее важный патогенетический фактор, который отвечает за возникновение эндемических заболеваний щитовидной железы [3, 4]. При длительном недостаточном поступлении микроэлемента в организм происходят срыв механизмов адаптации и возникновение йододефицитных заболеваний [5].
Многочисленными исследованиями подтверждена важность селена в поддержании гомеостаза различных жизненно важных процессов, включая иммуноэндокринную функцию [6]. Селен играет важную роль в функционировании щитовидной железы [7–13], предполагается, что эта связь осуществляется через особый фермент, называемый 5'-дейодиназой типа 1, который отвечает за преобразование гормонов щитовидной железы и содержит селен [14].
С 1990 г. число случаев рака щитовидной железы в мире выросло на 169% [15]. Внедрение новых технологий скрининга, таких как ультразвуковая эхография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, а также рост доступности медицинской помощи в мире позволяют медикам обнаруживать и регистрировать поражения щитовидной железы, от небольших до значительных [16].
После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. в Центральном федеральном округе (ЦФО) создалась уникальная эколого-геохимическая ситуация в результате выпадений радиоактивных изотопов на территории с разным, в том числе дефицитным, уровнем содержания микроэлементов в окружающей среде. Это способствовало распространению среди населения заболеваний щитовидной железы. Нормальное функционирование щитовидной железы требует поддержания определённого уровня поступления йода и селена с суточным рационом. Таким образом, на этих территориях возникла уникальная ситуация сочетанного (природного и техногенного) воздействия на пострадавшее население. Такая ситуация требует постоянного мониторинга геохимических индикаторов риска и изучения их пространственного распределения.
Хотя основным источником поступления йода в почвы и растения является Мировой океан, уровень содержания и миграция йода во многом зависят от рельефа местности, агрофизических и агрохимических свойств почв, климата и гидрологического режима. Наименьшее количество йода в почвах России отмечается в подзолистых и серых лесных почвах лёгкого гранулометрического состава, а наибольшее — в солончаках [17].
Таким образом, оценка йодного статуса территории ЦФО представляется актуальной, поскольку недостаток йода в организме, обусловленный его дефицитом в нижних звеньях трофической цепи, приводит к возникновению эндемических заболеваний.
Заболевания щитовидной железы могут быть обусловлены не только дефицитом йода, но и проявляться при содержании йода, близком к норме, на фоне дисбаланса других эссенциальных элементов, таких как селен, медь, кобальт. В частности, в мире дефицит селена выявлен у 1 млрд человек [18]. В России 90% населения потребляют с продуктами питания недостаточное количество селена [19]. Помимо заболеваний щитовидной железы, установлено, что дефицит селена в пищевых цепях способствует возникновению порядка 40 разных заболеваний.
Хотя среднее содержание селена в почвах Российской Федерации составляет 300 мг/кг, многие районы страны являются селенодефицитными. Обеспеченность почв валовыми формами селена варьирует в очень широких пределах — от 50 мкг/кг в дерново-подзолистых и серых лесных почвах Нечерноземья до 1100 мкг/кг в почвах аридных территорий [20]. При этом контрастное содержание как селена, так и йода может наблюдаться в почвах разных типов в пределах одной области и даже района. Так, было показано, что в Брянской области серая лесная суглинистая почва на лёссовидных суглинках содержит в верхнем 20-сантиметровом слое в два раза больше йода и почти в четыре раза больше селена, чем дерново-подзолистая супесчаная на двучленных отложениях в том же слое [21].
Цель исследования. Анализ региональных особенностей заболеваемости болезнями щитовидной железы у населения ЦФО в зависимости от микроэлементного статуса территории.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ЦФО занимает центральную часть Восточно-Европейской равнины. Площадь округа составляет 650 205 км², что превосходит любое из европейских государств. В округ входят 18 субъектов: 17 областей (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская) и город федерального значения Москва1. ЦФО значительно превосходит другие федеральные округа страны по численности населения (26,9% населения России) с плотностью населения — 57,7 чел./км2. Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерновых, овощных, масличных культур, молочно-мясном животноводстве и характеризуется развитой рыночной инфраструктурой.
Поскольку город федерального значения Москва, как крупнейший мегаполис Европы, практически не потребляет продукты питания, производимые из выращенной на местных сельскохозяйственных угодьях плодоовощной и мясомолочной продукции, а также из-за значимых различий в уровне жизни населения и доступности медицинских услуг, в сравнении с областями ЦФО, она была исключена из сопоставительного анализа. Пространственная неоднородность распределения эндемических заболеваний в урбанизированных районах (включая Московскую агломерацию) требует дополнительной оценки.
Для анализа популяционного здоровья населения регионов ЦФО использовали деперсонифицированные сведения о количестве пациентов с впервые диагностированными заболеваниями щитовидной железы за 2013–2017 гг., взятые из опубликованных на официальном сайте Минздрава России сборников статистических материалов «Заболеваемость всего населения России» (табл. 1). В таблице представлены показатели впервые выявленной заболеваемости населения субъектов ЦФО болезнями щитовидной железы на 100 000 всего населения за 2013–2014 гг. [22], за 2015 г. [23], за 2016–2017 гг. [24].
Таблица 1. Впервые выявленная заболеваемость населения Центрального федерального округа (ЦФО) болезнями щитовидной железы, на 100 000 всего населения в год
Table 1. Incidence of thyroid diseases in the population of the Central Federal District (CFD), per 100,000 of the total population per year
Субъект ЦФО | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Среднее |
Белгородская область | 289,4 | 284,7 | 234,6 | 249,3 | 214,4 | 254,48 |
Брянская область | 840,3 | 779,6 | 750,4 | 729,3 | 646,6 | 749,24 |
Владимирская область | 445,6 | 428,2 | 441,3 | 365,3 | 386,7 | 413,42 |
Воронежская область | 196,0 | 223,0 | 283,1 | 244,1 | 241,0 | 237,44 |
Ивановская область | 383,7 | 377,8 | 285,9 | 486,0 | 391,5 | 384,98 |
Калужская область | 249,4 | 207,3 | 228,8 | 265,1 | 225,0 | 235,12 |
Костромская область | 184,6 | 225,2 | 215,3 | 201,8 | 253,5 | 216,08 |
Курская область | 180,3 | 206,4 | 216,7 | 185,7 | 197,7 | 197,36 |
Липецкая область | 218,2 | 252,0 | 198,1 | 188,5 | 146,8 | 200,72 |
Московская область | 174,0 | 201,4 | 233,5 | 226,9 | 209,4 | 209,04 |
Орловская область | 470,0 | 475,5 | 677,2 | 632,5 | 623,7 | 575,78 |
Рязанская область | 397,1 | 435,8 | 364,8 | 408,8 | 319,9 | 385,28 |
Смоленская область | 222,4 | 220,9 | 237,4 | 256,3 | 232,8 | 233,96 |
Тамбовская область | 205,5 | 202,7 | 145,3 | 190,2 | 170,1 | 182,76 |
Тверская область | 257,9 | 262,4 | 317,2 | 252,1 | 277,4 | 273,40 |
Тульская область | 159,7 | 177,7 | 204,8 | 243,9 | 263,2 | 209,86 |
Ярославская область | 406,0 | 450,8 | 397,0 | 359,5 | 368,3 | 396,32 |
Данные о первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями щитовидной железы получены на основе агрегированной формы популяционного регистра онкологических больных в Российской Федерации [25] и показателя заболеваемости населения злокачественными новообразованиями щитовидной железы (на 100 000 населения) на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» по всему содержащемуся временнÓму ряду: за 1995–2023 гг., с разбивкой по возрастам за 2003–2023 гг. по каждому из субъектов ЦФО (табл. 2).
Таблица 2. Первичная заболеваемость населения Центрального федерального округа злокачественными новообразованиями щитовидной железы, всего на 100 тыс. населения
Table 2. Incidence of malignant thyroid neoplasms in the population of the Central Federal District, per 100,000 people
Год | Белгородская обл. | Брянская обл. | Владимирская обл. | Воронежская обл. | Ивановская обл. | Калужская обл. | Костромская обл. | Курская обл. | Липецкая обл. | Московская обл. | Орловская обл. | Рязанская обл. | Смоленская обл. | Тамбовская обл. | Тверская обл. | Тульская обл. | Ярославская обл. |
1995 | 6,91 | 8,75 | 1,71 | 3,64 | 2,84 | 2,10 | 3,74 | 2,68 | 3,20 | 2,32 | 11,61 | 5,64 | 2,83 | 4,11 | 4,44 | 7,22 | 3,37 |
1996 | 8,43 | 6,86 | 1,83 | 3,96 | 2,07 | 2,47 | 3,38 | 3,73 | 4,00 | 2,61 | 14,17 | 4,99 | 1,72 | 4,28 | 4,21 | 7,10 | 4,22 |
1997 | 5,34 | 8,94 | 3,25 | 6,71 | 3,13 | 3,39 | 2,39 | 4,04 | 4,00 | 2,53 | 13,89 | 5,02 | 2,33 | 5,62 | 4,29 | 5,03 | 3,34 |
1998 | 4,64 | 8,11 | 2,10 | 6,38 | 3,72 | 2,66 | 1,27 | 4,97 | 4,57 | 3,13 | 17,36 | 5,06 | 2,09 | 6,75 | 5,62 | 5,25 | 3,01 |
1999 | 5,56 | 13,29 | 2,42 | 5,72 | 5,06 | 4,99 | 1,79 | 3,19 | 3,70 | 3,35 | 9,56 | 7,04 | 2,11 | 5,01 | 5,17 | 4,85 | 5,00 |
2000 | 4,88 | 13,83 | 2,38 | 5,72 | 6,77 | 4,19 | 3,09 | 3,68 | 5,09 | 3,92 | 8,17 | 5,16 | 2,23 | 5,70 | 7,57 | 6,02 | 6,11 |
2001 | 4,07 | 14,11 | 1,64 | 6,35 | 5,68 | 6,20 | 2,86 | 6,19 | 3,41 | 4,53 | 5,86 | 6,10 | 2,62 | 5,77 | 8,25 | 5,64 | 6,32 |
2002 | 6,05 | 17,52 | 2,39 | 7,06 | 5,65 | 4,10 | 2,53 | 5,33 | 4,18 | 3,78 | 11,83 | 5,49 | 2,24 | 7,95 | 11,40 | 6,43 | 5,53 |
2003 | 5,95 | 18,71 | 3,17 | 5,25 | 4,40 | 6,87 | 3,97 | 4,09 | 3,40 | 4,05 | 7,73 | 5,43 | 2,02 | 6,00 | 11,55 | 5,97 | 5,38 |
2004 | 5,49 | 23,71 | 2,61 | 6,57 | 4,72 | 8,39 | 1,94 | 4,72 | 4,85 | 3,82 | 5,44 | 4,66 | 1,95 | 5,90 | 11,22 | 7,29 | 5,13 |
2005 | 6,68 | 21,29 | 3,18 | 6,20 | 5,24 | 6,19 | 1,54 | 5,79 | 4,81 | 4,10 | 5,97 | 3,79 | 3,06 | 4,31 | 10,31 | 7,20 | 5,93 |
2006 | 6,48 | 21,90 | 3,21 | 5,64 | 4,39 | 7,32 | 2,13 | 7,64 | 5,61 | 4,20 | 7,71 | 4,84 | 2,90 | 4,09 | 10,23 | 8,05 | 5,66 |
2007 | 7,58 | 21,25 | 5,09 | 8,17 | 4,80 | 10,92 | 4,00 | 6,77 | 6,57 | 4,82 | 8,25 | 4,54 | 2,73 | 5,04 | 10,54 | 8,71 | 6,15 |
2008 | 6,77 | 20,78 | 4,64 | 8,39 | 5,85 | 12,55 | 2,59 | 8,37 | 5,23 | 5,39 | 6,71 | 4,22 | 2,04 | 5,99 | 10,33 | 9,87 | 5,26 |
2009 | 6,80 | 22,04 | 4,50 | 7,34 | 6,45 | 9,22 | 3,37 | 6,55 | 6,41 | 4,98 | 6,34 | 4,74 | 2,44 | 5,83 | 9,29 | 9,24 | 6,10 |
2010 | 5,16 | 18,81 | 3,81 | 7,67 | 4,89 | 9,58 | 2,84 | 5,31 | 5,87 | 4,68 | 6,59 | 5,27 | 3,04 | 4,02 | 7,66 | 8,22 | 7,84 |
2011 | 5,08 | 23,24 | 5,15 | 6,94 | 5,03 | 12,75 | 4,38 | 8,28 | 8,03 | 4,92 | 7,66 | 6,69 | 3,57 | 5,62 | 6,98 | 8,51 | 6,22 |
2012 | 4,94 | 28,54 | 5,53 | 9,00 | 5,75 | 12,21 | 2,90 | 5,72 | 7,54 | 5,14 | 12,72 | 6,18 | 2,57 | 5,56 | 7,33 | 10,02 | 6,86 |
2013 | 5,57 | 31,45 | 7,10 | 9,47 | 4,74 | 8,93 | 2,32 | 6,08 | 5,57 | 5,00 | 10,36 | 6,11 | 3,21 | 4,38 | 7,15 | 8,31 | 8,21 |
2014 | 6,07 | 28,77 | 5,17 | 10,87 | 5,70 | 9,30 | 3,76 | 6,19 | 6,69 | 5,79 | 9,95 | 6,40 | 2,93 | 4,90 | 8,68 | 10,55 | 7,52 |
2015 | 6,19 | 29,02 | 6,18 | 12,06 | 5,74 | 6,48 | 3,78 | 6,90 | 6,77 | 6,89 | 11,04 | 5,18 | 2,94 | 6,72 | 8,41 | 9,51 | 10,61 |
2016 | 7,46 | 26,55 | 6,13 | 9,01 | 5,90 | 6,81 | 3,98 | 7,51 | 5,39 | 7,13 | 8,21 | 6,17 | 4,02 | 4,12 | 8,01 | 8,86 | 9,12 |
2017 | 8,11 | 24,32 | 7,89 | 10,07 | 5,88 | 7,44 | 4,03 | 7,71 | 6,94 | 6,41 | 10,29 | 5,21 | 4,69 | 5,60 | 8,23 | 10,56 | 8,76 |
2018 | 10,76 | 24,78 | 9,46 | 10,47 | 5,55 | 8,18 | 5,57 | 8,13 | 4,73 | 6,67 | 9,32 | 7,10 | 4,73 | 4,20 | 5,97 | 9,61 | 7,85 |
2019 | 9,73 | 23,47 | 9,30 | 6,55 | 5,63 | 7,98 | 5,82 | 9,44 | 6,37 | 7,06 | 12,68 | 5,35 | 3,47 | 6,23 | 6,97 | 10,58 | 7,02 |
2020 | 9,81 | 15,37 | 5,56 | 8,33 | 4,86 | 5,69 | 6,40 | 7,67 | 5,37 | 6,27 | 10,20 | 5,11 | 3,08 | 6,40 | 3,92 | 7,67 | 6,02 |
2021 | 10,64 | 19,37 | 8,81 | 7,79 | 5,58 | 9,77 | 7,37 | 8,20 | 5,85 | 7,17 | 11,32 | 6,88 | 5,60 | 6,90 | 7,78 | 7,12 | 7,75 |
2022 | 9,51 | 22,36 | 9,90 | 9,76 | 6,53 | 8,95 | 13,74 | 12,49 | 6,98 | 8,16 | 13,05 | 8,78 | 6,02 | 6,48 | 11,08 | 7,99 | 8,08 |
2023 | 8,58 | 26,20 | 11,24 | 11,64 | 6,34 | 14,66 | 23,08 | 16,59 | 8,97 | 9,25 | 13,99 | 8,08 | 6,87 | 6,21 | 10,82 | 6,89 | 9,54 |
В основе метода построения карт экологического риска заболеваний лежит установление пространственной неоднородности заболеваний и факторов, её вызывающих, путём анализа благоприятности геохимических условий. В качестве индикаторов таких условий использовали валовые концентрации микроэлементов (йода и селена) как потенциальный максимум содержания, доступный растениям. В рассматриваемом случае дефицита такая оценка представляет собой верхний (то есть наиболее благоприятный) предел [26].
Для построения пространственной модели неоднородности геохимических факторов, связанных с заболеваемостью населения, использовали алгоритм построения карт природной геохимической неоднородности территорий на базе электронных почвенных карт с последующей оценкой и алгоритм построения карт эколого-геохимического риска, первым этапом которого является картографирование природной геохимической неоднородности территорий на базе электронных почвенных карт.
Картографической основой, используемой для построения оценочных карт распределения микроэлементов в почвенном покрове региона, послужил Единый государственный реестр почвенных ресурсов России с картографической основой масштаба 1:2 500 000 [27]. В качестве исходных данных по концентрации йода в почвах использовали данные Е.М. Коробовой [28] и Н.А. Протасовой, А.П. Щербакова [29], селена — А.Н. Аристархова и соавт. [19]. Каждой качественной классификационной паре картографических единиц «тип почвы–почвообразующая порода» присвоены количественные атрибуты средних концентраций. В табл. 3 приведены типы почв (с условными обозначениями), складывающих почвенный покров ЦФО, их почвообразующие породы, а также оценка содержания йода и селена для каждого типа почв и почвообразующей породы в мг/кг воздушно-сухой массы (в.с.м.).
Таблица 3. Оценка концентрации йода (мг/кг воздушно-сухой массы) и селена (мг/кг воздушно-сухой массы) в почвах и почвообразующих породах Центрального федерального округа
Table 3. Iodine (mg/kg of air-dry weight) and selenium (mg/kg of air-dry weight) levels in soils and parent rocks of the Central Federal District
Условное обозначение | Тип почвы | Почвообразующая порода | Йод | Селен |
П2 | Подзолистые, преимущественно неглубокоподзолистые | Глинистые и тяжелосуглинистые | 0,50 | 0,21 |
Среднесуглинистые | 0,50 | 0,21 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,50 | 0,21 | ||
Пгт | Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,31 | 0,18 |
Среднесуглинистые | 5,31 | 0,18 | ||
Среднесуглинистые валунные и галечниковые | 5,31 | 0,18 | ||
Легкосуглинистые | 5,31 | 0,18 | ||
Легкосуглинистые валунные и галечниковые | 5,31 | 0,18 | ||
Супесчаные | 5,31 | 0,18 | ||
Песчаные | 5,31 | 0,18 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 5,31 | 0,18 | ||
П1д | Дерново-подзолистые, преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые | Глинистые и тяжелосуглинистые | 1,39 | 0,35 |
Среднесуглинистые | 1,39 | 0,35 | ||
Среднесуглинистые валунные и галечниковые | 1,39 | 0,35 | ||
Легкосуглинистые | 1,39 | 0,35 | ||
Легкосуглинистые валунные и галечниковые | 1,39 | 0,35 | ||
Супесчаные | 0,83 | 0,35 | ||
Супесчаные валунные и галечниковые | 0,83 | 0,35 | ||
Песчаные | 0,64 | 0,35 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,64 | 0,35 | ||
Супесчаные на слоистых песчаных и супесчаных породах | 0,83 | 0,35 | ||
Легко- и среднесуглинистые, подстилаемые тяжелосуглинистыми и глинистыми породами | 1,39 | 0,35 | ||
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 1,39 | 0,35 | ||
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием песков и супесей | 0,64 | 0,35 | ||
П2д | Дерново-подзолистые, преимущественно неглубокоподзолистые | Глинистые и тяжелосуглинистые | 1,39 | 0,35 |
Среднесуглинистые | 1,39 | 0,35 | ||
Среднесуглинистые валунные и галечниковые | 1,39 | 0,35 | ||
Легкосуглинистые | 1,39 | 0,35 | ||
Легкосуглинистые валунные и галечниковые | 1,39 | 0,35 | ||
Супесчаные | 0,83 | 0,35 | ||
Супесчаные валунные и галечниковые | 0,83 | 0,35 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,83 | 0,35 | ||
Супесчаные на слоистых песчаных и супесчаных породах | 0,83 | 0,35 | ||
Легко- и среднесуглинистые, подстилаемые тяжелосуглинистыми и глинистыми породами | 1,39 | 0,35 | ||
Пд | Дерново-подзолистые (без разделения) | Среднесуглинистые | 1,39 | 0,35 |
Легкосуглинистые | 1,39 | 0,35 | ||
Супесчаные | 0,83 | 0,35 | ||
Легко- и среднесуглинистые, подстилаемые тяжелосуглинистыми и глинистыми породами | 1,39 | 0,35 | ||
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 1,39 | 0,35 | ||
Пдо | Дерново-подзолистые со вторым осветлённым горизонтом | Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,64 | 0,35 |
Легко- и среднесуглинистые, подстилаемые тяжелосуглинистыми и глинистыми породами | 1,39 | 0,35 | ||
Пдпг | Дерново-подзолистые поверхностно-глееватые, преимущественно глубокие и сверхглубокие | Глинистые и тяжелосуглинистые | 0,79 | 0,26 |
Среднесуглинистые | 0,79 | 0,26 | ||
Легкосуглинистые | 0,79 | 0,26 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,79 | 0,26 | ||
Супесчаные на слоистых песчаных и супесчаных породах | 0,79 | 0,26 | ||
Легко- и среднесуглинистые, подстилаемые тяжелосуглинистыми и глинистыми породами | 0,79 | 0,26 | ||
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 0,79 | 0,26 | ||
Пдгг | Дерново-подзолистые глубокоглееватые и глееватые (в том числе поверхностно-глееватые), преимущественно глубокие | Глинистые и тяжелосуглинистые | 0,79 | 0,26 |
Среднесуглинистые | 0,79 | 0,26 | ||
Среднесуглинистые валунные и галечниковые | 0,79 | 0,26 | ||
Легкосуглинистые | 0,79 | 0,26 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,79 | 0,26 | ||
Пдк | Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные | Среднесуглинистые валунные и галечниковые | 1,23 | 0,26 |
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 1,23 | 0,26 | ||
Пдж | Дерново-подзолистые иллювиально-железистые | Песчаные | 0,79 | 0,35 |
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,79 | 0,35 | ||
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием песков и супесей | 0,79 | 0,35 | ||
Пдп | Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные | Среднесуглинистые | 1,23 | 0,35 |
Частая смена пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 1,23 | 0,35 | ||
Пгдп | Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные глубокоглееватые и глеевые | Среднесуглинистые | 1,23 | 0,35 |
Пгд | Дерново-подзолисто-глеевые | Глинистые и тяжелосуглинистые | 1,23 | 0,35 |
Среднесуглинистые | 1,23 | 0,35 | ||
Легкосуглинистые | 1,23 | 0,35 | ||
Легкосуглинистые валунные и галечниковые | 1,23 | 0,35 | ||
Песчаные | 0,79 | 0,35 | ||
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,79 | 0,35 | ||
По1иг | Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые) | Песчаные | 0,79 | 0,17 |
Поиг | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые) | Песчаные | 0,79 | 0,17 |
Пог | Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, преимущественно иллювиально-гумусовые | Песчаные | 0,79 | 0,17 |
Песчаные и супесчаные, подстилаемые суглинистыми и глинистыми породами | 0,79 | 0,17 | ||
Дк | Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) | Среднесуглинистые | 0,79 | 0,17 |
Дг | Дерново-глеевые и перегнойно-глеевые | Среднесуглинистые валунные и галечниковые | 1,23 | 0,17 |
Легкосуглинистые | 1,23 | 0,17 | ||
Дгоп | Дерново-глеевые оподзоленные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 1,23 | 0,17 |
СЛс | Светло-серые лесные | Нет | 2,00 | 0,26 |
Глинистые и тяжелосуглинистые | 2,00 | 0,26 | ||
Среднесуглинистые | 2,00 | 0,26 | ||
Легкосуглинистые | 2,00 | 0,26 | ||
СЛ | Серые лесные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 2,50 | 0,41 |
Среднесуглинистые | 2,50 | 0,41 | ||
Легкосуглинистые | 2,50 | 0,41 | ||
СЛт | Тёмно-серые лесные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 3,20 | 0,41 |
Среднесуглинистые | 3,20 | 0,41 | ||
Легкосуглинистые | 3,20 | 0,41 | ||
Песчаные | 3,20 | 0,41 | ||
Чоп | Чернозёмы оподзоленные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 4,00 | 0,20 |
Среднесуглинистые | 4,00 | 0,20 | ||
Легкосуглинистые | 4,00 | 0,20 | ||
Чв | Чернозёмы выщелоченные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,60 | 0,47 |
Среднесуглинистые | 4,10 | 0,47 | ||
Легкосуглинистые | 4,10 | 0,47 | ||
Чт | Чернозёмы типичные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,60 | 0,32 |
Легкосуглинистые | 5,60 | 0,32 | ||
Чо | Чернозёмы обыкновенные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,60 | 0,25 |
Среднесуглинистые | 5,60 | 0,25 | ||
Легкосуглинистые | 5,60 | 0,25 | ||
Чю | Чернозёмы южные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,60 | 0,18 |
Чк | Чернозёмы остаточно-карбонатные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 4,10 | 0,32 |
Известняки и другие карбонатные породы | 4,10 | 0,32 | ||
Чv | Чернозёмы без разделения, преимущественно неполноразвитые | Глинистые и тяжелосуглинистые | 4,10 | 0,32 |
Чл | Лугово-чернозёмные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,60 | 0,84 |
Легкосуглинистые | 5,60 | 0,32 | ||
Члв | Лугово-чернозёмные выщелоченные | Глинистые и тяжелосуглинистые | 5,60 | 0,32 |
Тв | Торфяные болотные верховые | Нет | 9,23 | 0,18 |
Тп | Торфяные болотные переходные | Нет | 9,23 | 0,32 |
Тн | Торфяные болотные низинные | Нет | 9,23 | 0,32 |
Гт | Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (глеезёмы торфянистые и торфяные болотные) | Нет | 5,31 | 0,32 |
А | Пойменные кислые | Нет | 2,27 | 0,97 |
Ан | Пойменные слабокислые и нейтральные | Нет | 2,27 | 0,97 |
Для анализа корректности оценок использовали данные полевых исследований, проводимых в ГЕОХИ РАН c 2007 г. по настоящее время на территории областей, наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Брянской, Орловской и Калужской [30]. На предварительно выбранных участках пастбищ вблизи сельских населённых пунктов отбирали образцы почв ручным буром из верхнего слоя мощностью 20 см. Определение йода и селена выполняли в лаборатории биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН. Валовые формы йода определяли ускоренным кинетическим роданидно-нитритным методом [31] на фотометре КФК-3-01-«ЗОМЗ» (ЗОМЗ, Россия) из свежих образцов почв. Чувствительность метода — 1–4 нг/мл, воспроизводимость — 2–7%. Все результаты измерений йода для сопоставимости пересчитали на воздушно-сухую навеску. Общую и гигроскопическую влагу определяли стандартными методами [32], определение селена — спектрофлуориметрическим методом в воздушно-сухих образцах2 на спектрофлюориметре MPFS-2A (Hitachi, Япония). Чувствительность метода — 1 нг/мл, воспроизводимость — 7%.
Средняя концентрация микроэлементов в почвенном покрове более крупного выдела — субъекта федерации как территории, для которой доступна медицинская информация, была оценена после присвоения соответствующих атрибутов по формуле (1) [33]:
(1)
где Сreg — средняя концентрация микроэлемента в почве региона; Ci — средняя концентрация микроэлемента, характерная для типа почвы, сформированной на данной почвообразующей породе; Ai — доля площади полигона в площади региона; n — число полигонов почвенной карты на территории области, i — номер полигона.
Анализ проводили в геоинформационной системе ArcGIS 10.8.1 (ESRI, США).
Радиационное загрязнение исследуемой территории вследствие аварии на Чернобыльской АЭС анализировали по данным о распределении количества населённых пунктов по уровню загрязнения 137Cs (по состоянию на январь 2024 г.) на основе ежегодно публикуемых данных НПО «Тайфун», которое с 1986 г. проводит уточнение радиационной обстановки на территориях областей России, загрязнённых техногенными радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Обследования включают измерения мощности дозы гамма-излучения на территориях населённых пунктов [34]. Следует отметить возможность пересчёта измерительных данных о загрязнении почвы 137Cs в данные о загрязнении территории 131I [35].
Статистическую обработку результатов проводили в программных комплексах Microsoft Excel (Microsoft, США) и TIBCO STATISTICA 13.3 (TIBCO, США). Оценки обеспеченности почв йодом и селеном и показатели заболеваемости по регионам имели распределение, отличное от нормального (рис. 1), а также небольшую выборку (n=17), поэтому для интерпретации возможных взаимосвязей между геохимическими и медицинскими данными использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (R).
Рис. 1. Распределение оценок концентраций йода (I) и селена (Se) в регионах Центрального федерального округа. Красной линией показана кривая распределения.
Fig 1. Distribution of estimated iodine (I) and selenium (Se) levels in the regions of the Central Federal District. The red line shows the distribution curve.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сопоставление картографических оценок обеспеченности различных типов почв изучаемыми микроэлементами и данных химического анализа образцов показало хорошую сходимость: по йоду в 16 парах «почва–порода» (n=136) R=0,92 (p <0,01), по селену в 6 парах «почва–порода» (n=44) R=0,80 (p=0,05; рис. 2).
Рис. 2. Сопоставление картографических оценок обеспеченности почв йодом (I) и селеном (Se) и данных отбора фактического материала.
Fig 2. Comparison of map-based estimates of soil iodine (I) and selenium (Se) level and actual data from the selection.
Картографическое представление йодного и селенового статуса почвенного покрова ЦФО, полученное на основе данных по варьированию среднего содержания йода и селена в почвах разного типа, показано на рис. 3.
Рис. 3. Пространственное распределение содержания йода (I) и селена (Se) в почвах Центрального федерального округа.
Fig. 3. Spatial distribution of iodine (I) and selenium (Se) levels in soils of the Central Federal District.
При оценке валового содержания йода в почвах России используют следующие градации: <5,0 мг/кг в.с.м. — недостаточное содержание; 5,1–40,0 мг/кг в.с.м. — нормальное; >40,0 мг/кг в.с.м. — избыточное [36, 37]. Анализ полученного распределения йода в почвах (см. рис. 3) позволил выделить три группы регионов с различным уровнем обеспеченности йодом [38]: 1) дефицит по содержанию йода (менее 4,0 мг/кг в.с.м.) характерен для Московской (1,91), Тверской (1,85), Брянской (1,69), Смоленской (1,72), Владимирской (1,68), Ярославской (1,55), Ивановской (1,51), Костромской (1,75) и Калужской (1,49) областей; 2) содержание йода от слабого дефицита до нормы (в пределах 4,1–4,8 мг/кг в.с.м.) — для Воронежской (4,88), Тамбовской (4,79), Липецкой (4,75), Белгородской (4,71) и Курской (4,17) областей; 3) контрастные по содержанию йода регионы, в которых встречаются сопоставимые по площади почвы с обеспеченностью йодом от слабого дефицита (3,0–4,0 мг/кг в.с.м.) до нормы: а) Рязанская область (3,00 мг/кг в.с.м.), где подзолы и серые лесные почвы на северо-западе сочетаются с чернозёмами на юге и торфяными болотными в Мещёрской низменности на северо-востоке; б) Тульская (3,66) и Орловская (3,77) области (сочетание дерново-подзолистых, серых лесных почв и чернозёмов).
Оценка распределения селена в почвах позволила выделить в ЦФО области с относительно низким (0,30–0,40 мг/кг в.с.м.) содержанием микроэлемента: Тамбовская (0,33), Рязанская (0,34), Липецкая (0,35), Ярославская (0,35), Белгородская (0,36), Ивановская (0,37), Калужская (0,38), Тульская (0,38), Брянская (0,39) и Владимирская (0,39) и относительно высоким (0,41–0,59 мг/кг в.с.м.) — Костромская (0,41), Тверская (0,42), Орловская (0,44), Московская (0,44), Воронежская (0,45), Курская (0,50) и Смоленская (0,59). При этом во всех регионах содержание селена в почвах находится в пределах биогеохимической нормы (0,20–0,70 мг/кг в.с.м.) [39]. Следует отметить, что, в отличие от йода, для содержания селена в почве установлены только пределы геохимической нормы, но отсутствуют общепринятые градации дефицита или избытка. Сводные результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4. Средневзвешенные концентрации йода и селена в почвах регионов Центрального федерального округа (ЦФО)
Table 4. Weighted average levels of iodine and selenium in soils of the regions of the Central Federal District (CFD)
Субъект ЦФО | Средневзвешенная концентрация йода, мг/кг воздушно-сухой массы | Средневзвешенная концентрация селена, мг/кг воздушно-сухой массы |
Белгородская область | 4,71 | 0,36 |
Брянская область | 1,69 | 0,39 |
Владимирская область | 1,68 | 0,39 |
Воронежская область | 4,88 | 0,45 |
Ивановская область | 1,51 | 0,37 |
Калужская область | 1,49 | 0,38 |
Костромская область | 1,75 | 0,41 |
Курская область | 4,17 | 0,50 |
Липецкая область | 4,75 | 0,35 |
Московская область | 1,91 | 0,44 |
Орловская область | 3,77 | 0,44 |
Рязанская область | 3,00 | 0,34 |
Смоленская область | 1,72 | 0,59 |
Тамбовская область | 4,79 | 0,33 |
Тверская область | 1,85 | 0,42 |
Тульская область | 3,66 | 0,38 |
Ярославская область | 1,55 | 0,35 |
Сопоставление геохимических параметров с показателями заболеваемости щитовидной железы (коды МКБ-10 E00-E07) в 2013–2017 гг. показало значимую (на уровне p=0,055) обратную (R=–0,473) связь со средневзвешенным содержанием йода в почве региона (табл. 5).
Таблица 5. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (R) и уровни их значимости (p) между содержанием йода (I), селена (Se), активностью 137Сs (Cs-137) в почвах областей Центрального федерального округа и заболеваемостью щитовидной железы населения за 2013–2017 гг.
Table 5. Spearman’s rank correlations (R) and their significance (p) between the levels of iodine (I), selenium (Se), and 137Cs (Cs-137) activity in soils of the Central Federal District and thyroid disease incidence in the population for 2013–2017
Параметр | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Весь период | |
I | R | –0,419* | –0,306 | –0,424* | –0,583** | –0,534** | –0,473* |
p | 0,094 | 0,231 | 0,090 | 0,014 | 0,027 | 0,055 | |
Se | R | –0,265 | –0,223 | 0,157 | –0,081 | 0,039 | –0,039 |
p | 0,305 | 0,390 | 0,548 | 0,758 | 0,881 | 0,881 | |
Cs-137 | R | 0,162 | 0,111 | 0,183 | 0,316 | 0,236 | 0,257 |
p | 0,535 | 0,670 | 0,482 | 0,217 | 0,361 | 0,319 | |
Примечание. * p <0,100; ** p <0,050.
Следует отметить, что значимых связей с концентрацией селена в почве не выявлено (R=–0,039; p=0,881), как и связей заболеваемости с радиационным загрязнением территории (R=0,257; p=0,319).
Сопоставление заболеваемости раком щитовидной железы (код МКБ-10 C73) с концентрацией микроэлементов и радиоактивным загрязнением показало наличие значимой (p=0,001) прямой (R=0,725) связи между заболеваемостью и техногенным загрязнением за весь период с 1995 г. по настоящее время, а также по 10-летним периодам (табл. 6). Значимых связей показателей онкозаболеваемости щитовидной железы по всем возрастным группам с концентрацией йода (R=0,189; p=0,468) и селена (R=0,010; p=0,970) не выявлено.
Таблица 6. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (R) и уровни их значимости (p) между содержанием йода (I), селена (Se), активностью 137Сs (Cs-137) в почвах субъектов Центрального федерального округа и заболеваемостью населения раком щитовидной железы в 1995–2023 гг.
Table 6. Spearman’s rank correlations (R) and their significance (p) between the levels of iodine (I), selenium (Se), and 137Cs (Cs-137) activity in soils of the constituent entities of the Central Federal District and thyroid cancer incidence in the population for 1995–2023
Параметр | 1995–2003 гг. | 2004–2013 гг. | 2014–2023 гг. | Весь период | |
I | R | 0,267 | –0,002 | 0,157 | 0,189 |
p | 0,300 | 0,993 | 0,548 | 0,468 | |
Se | R | –0,225 | –0,005 | 0,287 | 0,010 |
p | 0,384 | 0,985 | 0.264 | 0,970 | |
Cs-137 | R | 0,552** | 0,701** | 0,722** | 0,725** |
p | 0,022 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | |
Примечание. ** p <0,050.
Анализ возрастных групп показал дифференцированную картину для взрослых (старше 18 лет, заболеваемость за исследуемый период 8,91 на 100 000 в год) и детей (до 18 лет, заболеваемость за исследуемый период 0,45 на 100 000 в год). Так, для взрослого населения отмечена значимая (R=0,711; p=0,001) связь уровня радиационного загрязнения территории и заболеваемости (табл. 7).
Таблица 7. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (R) и уровни их значимости (p) между содержанием йода (I), селена (Se), активностью 137Сs (Cs-137) в почвах субъектов Центрального федерального округа и заболеваемостью раком щитовидной железы взрослого (старше 18 лет) населения за 2003–2023 гг.
Table 7. Spearman’s rank correlations (R) and their significance (p) between the levels of iodine (I), selenium (Se), and 137Cs (Cs-137) activity in soils of the constituent entities of the Central Federal District and thyroid cancer incidence in the adult (over 18 years) population for 2003–2023
Параметр | 2003–2013 гг. | 2014–2023 гг. | Весь период | |
I | R | 0,083 | 0,130 | 0,029 |
p | 0,751 | 0,619 | 0,911 | |
Se | R | –0,017 | 0,297 | 0,140 |
p | 0,948 | 0,248 | 0,593 | |
Cs-137 | R | 0,671* | 0,701* | 0,711* |
p | 0,003 | 0,002 | 0,001 | |
Примечание. * p <0,050.
Для детей также характерно наличие значимой связи между заболеваемостью раком щитовидной железы и радиационным загрязнением территории (R=0,748; p=0,001), однако показано и наличие (на грани значимости p=0,138) обратной (R=–0,375) связи заболеваемости с уровнем природного йододефицита, особенно в 2003–2013 гг. (табл. 8). Значимой связи между показателем онкозаболеваемости и средневзвешенной концентрацией селена в почвах региона также не выявлено (R=–0,091; p=0,729).
Таблица 8. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (R) и уровни их значимости (p) между содержанием йода (I), селена (Se), активностью 137Сs (Cs-137) в почвах субъектов Центрального федерального округа и заболеваемостью раком щитовидной железы детского (0–17 лет) населения за 2003–2023 гг.
Table 8. Spearman’s rank correlations (R) and their significance (p) between the levels of iodine (I), selenium (Se), and 137Cs (Cs-137) activity in soils of the constituent entities of the Central Federal District and thyroid cancer incidence in the child (0–17 years) population for 2003–2023
Параметр | 2003–2013 гг. | 2014–2023 гг. | Весь период | |
I | R | –0,375 | –0,132 | –0,225 |
p | 0,138 | 0,613 | 0,384 | |
Se | R | 0,034 | –0,252 | –0,091 |
p | 0,896 | 0,328 | 0,729 | |
Cs-137 | R | 0,568* | 0,650* | 0,748* |
p | 0,017 | 0,005 | 0,001 | |
Примечание. * p <0,050.
ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление картографических оценок показало хорошую сходимость с фактическим материалом, отобранным в Брянской, Орловской и Калужской областях. Обнаруженное в результате исследования пониженное содержание микроэлементов в изученных типах почв (чернозёмах, серых лесных, дерново-подзолистых, аллювиальных) в сравнении с их картографическими оценками может быть связано с высокой степенью сельскохозяйственной эксплуатации исследованных почв, в основном выпасом крупного рогатого скота. Потери йода верхними горизонтами вследствие изменения таких почвенных параметров, как содержание органического вещества, гранулометрический состав, реакция почвенного раствора, в том числе в результате сельскохозяйственного воздействия, были показаны ранее [17, 19].
По литературным данным, для большей части почв сельскохозяйственного назначения ЦФО наблюдаются низкие значения йода: даже в чернозёмах обыкновенных Воронежской области валовое содержание йода в верхнем горизонте колеблется от 4,8 до 5,0 мг/кг в.с.м., а для заповедных территорий региона — 4,1–6,5 мг/кг в.с.м. [40]. Для дерново-подзолистых и подзолистых почв Европейской части Российской Федерации среднее содержание йода не превышает 2,5 мг/кг в.с.м. [21], что не противоречит полученным в ходе данного исследования результатам.
Полевые и лабораторные исследования в сочетании с картографическим анализом почвенной карты показали, что распределение йода в почвах сельскохозяйственных угодий ЦФО в целом подчиняется закону географической зональности. Содержание йода в почвенном покрове Восточно-Европейской равнины в верхних горизонтах почв возрастает с северо-запада на юго-восток, что не противоречит ранее полученным данным [41]. Как показало наше исследование, причины неравномерного распределения селена в этих почвах, безусловно, заслуживают дальнейшего изучения, но малозначимы с точки зрения развития раков щитовидной железы.
Выявленный дефицит йода в субъектах ЦФО подтверждает ранее выполненные оценки статуса: население ЦФО в Нечернозёмной зоне менее обеспечено йодом и селеном, которые содержатся в основных продуктах питания, производимых из выращенной на местных сельскохозяйственных угодьях плодоовощной и мясомолочной продукции, чем население степных чернозёмных районов [17].
Следует отметить, что на федеральном уровне в России исследования содержания йода в организме человека не проводились [42, 43]. Для большей части населения страны, за исключением проживающих в высокоразвитых регионах (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область), ренальная экскреция йода оценивается на уровне менее 100 мкг/л [43], что соответствует дефициту [44] по шкале Всемирной организации здравоохранения (нормой считается 100–200 мкг/л). В отдельных регионах ЦФО фиксируется дефицит йода в организме человека: в Брянской области «по результатам обследования 337 детей <…> доля проб мочи со сниженной концентрацией йода составила 50,1%» [45], в Тверской области медиана йодурии — 62 мкг/л [46]. Оба региона по средневзвешенной оценке концентрации йода в почве отнесены к дефицитным. Однако отсутствие данных по другим регионам ЦФО либо на общероссийском уровне не позволяет однозначно сопоставить содержание йода в почве и в организме человека по исследованным регионам.
Полученные в работе данные по уровням содержания селена в почвах ЦФО позволяют отнести территорию к биогеохимической норме [39] по данному показателю, что подтверждают исследования по оценке обеспеченности селеном растений и почв на территории России [47]. Однако, поскольку переход селена в растения (и далее по пищевой цепи в организм человека) зависит не только от обеспеченности почв подвижной формой элемента, но и от биологических особенностей растений [20], представленные оценки селенового статуса регионов могут быть улучшены путём замены валовых концентраций селена на содержание в почве подвижных форм (усваиваемых растениями).
При переходе селена в организм человека выраженная пространственная неоднородность сохраняется. Для регионов ЦФО уровень селена сыворотки крови человека варьирует: Владимирская область — 101,3±2,3 мкг/л, Костромская — 79,6±6,4 мкг/л, Калужская — 105,0±9,1 мкг/л, Московская — 115,0±33,0 мкг/л [48], при этом нарушением метаболизма селена считают концентрации, отклоняющиеся от значений 60–230 мкг/л [49], что также может косвенно указывать на уровень селена в почве, близкий к норме, однако данное предположение также требует дополнительных исследований на уровне всех субъектов федерального округа.
Результаты исследования пространственной неоднородности содержания элементов на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, согласуются с данными, полученными нами ранее (2007–2023 гг.) для отдельных регионов ЦФО: для Брянской области было установлено, что заболеваемость раком щитовидной железы в сельских поселениях отрицательно коррелирует с уровнем потребления йода и положительно — с пространственной оценкой радиоактивного загрязнения [33]. Для этого же региона была выявлена уязвимость детского населения (8–12 лет) к природному йододефициту [50]. В дальнейших исследованиях следует уделять больше внимания этой возрастной группе, поскольку именно для детей характерен отклик заболеваемости щитовидной железы на сочетание природных и техногенных факторов риска [51, 52].
Низкие значения коэффициентов корреляции, полученные для ряда зависимостей, следует отнести к многофакторности [52] риска возникновения исследуемых заболеваний. Кроме того, в исследовании проведён анализ заболеваемости по регионам без разделения на городское и сельское население, при том что для сельских населённых пунктов связь с природным дефицитом микроэлементов в окрестных почвах должна быть выше, чем для городских, поскольку существуют различия в структуре потребления продуктов питания в домашних хозяйствах и источниках их поступления [53].
Описанные взаимосвязи были обнаружены и в других регионах мира. В Китае [54] показана связь между состоянием почвы и почвообразующих пород и раком щитовидной железы, что указывает на возможность использования подхода, основанного на типе почвы, для оценки риска развития рака щитовидной железы. Аналогичная связь между средними концентрациями микроэлементов обнаружена и в других странах: в Беларуси самый низкий уровень йода у населения был обнаружен в Могилевской области [55] на бедных йодом почвах; в Испании наиболее высокие значения ренальной экскреции йода у населения [56] характерны для Астурии и Страны Басков, характеризующихся высокими концентрациями микроэлемента в почве [57]; низкое содержание йода в почвах провинции Асир в Саудовской Аравии связывают с более высокой заболеваемостью эндемическим зобом [58].
Следует отметить, что именно сочетание множества факторов приводит к значительной разнице в заболеваемости городского и сельского населения, включая более высокую обеспеченность и доступность медицинских и диагностических услуг, бÓльшую долю привозных продуктов (выращенных не на почве региона) в рационе питания в связи с урбанизацией региона и более комфортными условиями жизни. Пространственное распределение изученных заболеваний в густонаселённых урбанизированных районах (таких как Московская агломерация, крупнейшая в Европе) требует дальнейшей оценки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная модель распределения концентраций микроэлементов в почвенном покрове региона наглядно продемонстрировала пространственную неоднородность распределения йода и селена в почвенном покрове ЦФО на региональном и муниципальном уровнях.
Полученные модельные оценки сопоставимы с результатами полевых исследований, что указывает на возможность использования разработанной картографической модели для разноуровневой оценки риска.
Подтверждена значимая обратная корреляция между содержанием йода в почве и неонкологической заболеваемостью щитовидной железы в регионах ЦФО.
Уровень селена в почве всех исследованных регионов находится в пределах нормы, поэтому значимой связи между его содержанием в почве и заболеваемостью населения не обнаружено.
Показана значимая прямая корреляция между уровнем техногенного загрязнения почвы радиоизотопами 137Cs и заболеваемостью населения ЦФО раком щитовидной железы.
Таким образом, обеспеченность йодом, наряду с радиационным загрязнением территории, является фактором риска заболеваемости щитовидной железы, в том числе онкологической.
Населению, входящему в группу риска по заболеваемости раком щитовидной железы в ЦФО, необходимо знать о негативных последствиях дефицита микроэлементов. Полученные нами результаты показали, что пространственная неоднородность геохимических факторов и заболеваемости щитовидной железы заслуживает более детального изучения.
Результаты исследования могут быть использованы для развития системы информирования жителей о природных и техногенных рисках, сопряжённых с болезнями щитовидной железы, при разработке методов оценки рисков для всех территориальных образований, а также для разработки программ профилактики заболеваний щитовидной железы, включая злокачественные новообразования, на популяционном и региональном уровнях и для формирования индивидуальных программ профилактики патологий щитовидной железы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. В.И. Стародубов — научное руководство, организация сбора и анализа медицинской и демографической информации; В.С. Баранчуков — подготовка и написание текста статьи, пространственный анализ данных, отбор проб фактического материала; Е.А. Варавикова — подготовка и написание текста статьи, сбор и анализ медицинских статистических данных; В.Ю. Березкин — отбор проб фактического материала, пробоподготовка, химический анализ проб, анализ геохимических данных; Л.И. Колмыкова — отбор проб фактического материала, химический анализ проб, анализ геохимических данных; В.Н. Данилова — химический анализ проб; В.С. Ступак — научно-методическое руководство, организация сбора и анализа медицинской информации; Е.Н. Енина — сбор и анализ медицинских статистических данных; Ю.С. Журавлева — сбор и анализ медицинских статистических данных. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведения исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Исследование основано на данных федерального статистического наблюдения, поэтому не требовало экспертизы локального этического комитета.
Источники финансирования. Геохимические исследования выполнены в рамках государственного задания Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук. Анализ медико-демографических данных выполнен по государственному заданию ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: Vladimir I. Starodubov: supervision, investigation; Vladimir S. Baranchukov: writing—original draft; spatial analysis; investigation (sampling); Elena A. Varavikova: writing—original draft; investigation (medical), formal analysis; Viktor Yu. Beryozkin: investigation (sampling; chemical and geochemical), formal analysis; Liudmila I. Kolmykova: investigation (sampling; chemical and geochemical), formal analysis; Valentina N. Danilova: investigation (chemical); Valery S. Stupak: methodology, supervision, investigation; Ekaterina N. Enina: investigation (medical and statistical), formal analysis; Yulia S. Zhuravleva: investigation (medical and statistical), formal analysis. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication).
Ethics approval: This study was based on the official statistical monitoring data, therefore approval from a local ethics committee was not required.
Funding sources: Geochemical investigation was conducted under the state assignment of the V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences. Medical and demographic data were analyzed under the state assignment of the Federal State Budgetary Institution Russian Research Institute of Health of the Ministry of Health of the Russian Federation.
Disclosure of interest: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously obtained or published material (text, images, or data) was used in this study or article.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Регионы ЦФО. Режим доступа: http://cfo.gov.ru/spisokregionov Дата обращения: 22.10.2024.
2 МУК 4.1.033-95. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Определение селена в продуктах питания. Методические указания (утв. Госкомсанэпиднадзором России 24.07.1995). Режим доступа: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/metodicheskie-ukazaniya/5/muk_4_1_033-95_4_1_metody_kontrolya_khimicheskie_faktory.html Дата обращения: 22.10.2024.
About the authors
Vladimir I. Starodubov
Russian Research Institute of Health
Email: starodubov@mednet.ru
ORCID iD: 0000-0002-3625-4278
SPIN-code: 7223-9834
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences
Russian Federation, MoscowVladimir S. Baranchukov
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: baranchukov@geokhi.ru
ORCID iD: 0000-0003-1519-9983
SPIN-code: 2266-2251
Russian Federation, Moscow
Elena A. Varavikova
Russian Research Institute of Health
Email: dr.e.varavikova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3408-3417
SPIN-code: 3026-3615
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowViktor Yu. Berezkin
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: victor76@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-1025-638X
SPIN-code: 7074-9478
Cand. Sci. (Geology and Mineralogy)
Russian Federation, MoscowLiudmila I. Kolmykova
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: kmila9999@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4070-9869
SPIN-code: 2111-3310
Cand. Sci. (Geology and Mineralogy)
Russian Federation, MoscowValentina N. Danilova
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: val1910@mail.com
ORCID iD: 0000-0003-3308-8443
SPIN-code: 1778-9633
Russian Federation, Moscow
Valery S. Stupak
Russian Research Institute of Health
Email: stupak@mednet.ru
ORCID iD: 0000-0002-8722-1142
SPIN-code: 3720-1479
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor
Russian Federation, MoscowEkaterina N. Yenina
Russian Research Institute of Health
Email: eninaen@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-9876-5102
SPIN-code: 7531-4051
Russian Federation, Moscow
Yulia S. Zhuravleva
Russian Research Institute of Health
Email: zhuravlevays@mednet.ru
ORCID iD: 0000-0002-2278-9415
SPIN-code: 8322-3369
Russian Federation, Moscow
References
- Mason R, Wilkinson JS. The thyroid gland — a review. Aust Vet J. 1973;49(1):44–49. doi: 10.1111/j.1751-0813.1973.tb14680.x
- The untapped potential of the thyroid axis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1(3):163. doi: 10.1016/S2213-8587(13)70166-9
- Vinogradov VP. Iodine in nature. Priroda. 1927;(9):670–678. (In Russ.)
- Kovalsky VV. Chemical environment, health, diseases. In: Lebedev AD, editor. Theory and methodology of geographical research of human ecology. Moscow; 1974. Р. 95–111. (In Russ). URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3369968
- Gerasimov GA, Figge D. The Chernobyl: twenty years after. Clinical and experimental thyroidology. 2006;2(2):5–14. doi: 10.14341/ket2006225-14 EDN: PCMBLN
- Fairweather-Tait SJ, Bao Y, Broadley MR, et al. Selenium in human health and disease. Antioxid Redox Signal. 2011;14(7):1337–1383. doi: 10.1089/ars.2010.3275
- Arthur JR, Beckett GJ. Newer aspects of micronutrients in at risk groups: New metabolic roles for selenium. Proceedings of the Nutrition Society. 1994;53(3):615–624. doi: 10.1079/PNS19940070
- Gropper SA, Anderson K, Landing WM, Acosta PB. Dietary selenium intakes and plasma selenium concentrations of formula-fed and cow’s milk-fed infants. J Am Diet Assoc. 1990;90(11):1547–1550.
- Ermakov VV. Biogeochemistry of selenium and its role in prevention of human endemic diseases. Vestnik Otdelenia nauk o Zemle RAN. 2004;(1):1–17. (In Russ.)
- Cholodova EA, Kolomiez ND, Mochort EG. Selenium deficiency and thyroid function in adolescents. Clinical and experimental thyroidology. 2006;2(2):43–47. doi: 10.14341/ket20062243-47 EDN: PCMBNV
- Shabalina EA, Morgunova TB, Orlova SV, Fadeyev VV. Selenium and thyroid gland. Clinical and experimental thyroidology. 2011;7(2):7–18. doi: 10.14341/ket2011727-18 EDN: QZPSIH
- Gromova OA, Troshin IYu, Kosheleva NG. Molecular iodine synergists: new approaches to effective prevention and therapy of iodine-deficiency diseases in pregnant women. Russian Journal of Woman and Child Health. 2011;19(1):51–58. (In Russ.) EDN: PGOGLJ
- Khohlova EA. Selenium and thyroid: the point of view. Novaya apteka (New pharmacy). 2013;(6):82–83. (In Russ.)
- Behne D, Kyriakopoulos A, Meinhold H, Köhrle J. Identification of type I iodothyronine 5'-deiodinase as a selenoenzyme. Biochem Biophys Res Commun. 1990;173(3):1143–1149. doi: 10.1016/s0006-291x(05)80905-2
- Deng Y, Li H, Wang M, et al. Global burden of thyroid cancer from 1990 to 2017. JAMA Network Open. 2020:3(6):e208759. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.8759
- Vaccarella S, Franceschi S, Bray F, et al. Worldwide thyroid-cancer epidemic? The increasing impact of overdiagnosis. N Engl J Med. 2016;375(7):614–617. doi: 10.1056/NEJMp1604412
- Kashin VK. Biogeochemistry, phytophysiology and agrochemistry of iodine. Leningrad: Nauka; 1987. 260 р. (In Russ.) EDN: VURCBX
- Golubkina NA, Kekina EG, Nadezhkin SM. Prospects of agricultural plants biofortification with iodine and selenium (review). Trace Elements in Medicine. 2015;16(3):12–19. doi: 10.19112/2413-6174-2015-16-3-12-19 EDN: UZNFCJ
- Aristarkhov AN, Busygin AS, Yakovleva TA. Ecological and agrochemical assessment of selenium content in soils and plants of the North-Eastern Non-Chernozem region. Agrohimia. 2018;(11):67–77. doi: 10.1134/S0002188118090041 EDN: MESURP
- Ermakov VV. Selenium migration in biogeochemical food chains of Russian landscapes. The Problems of biogeochemistry and geochemical ecology. 2008;(2):3–10. (In Russ.)
- Berezkin VYu, Korobova EM, Danilova VN. Iodine and selenium in soils of the Bryansk Region (case study of the Titovka river basin). Lomonosov Geography Journal. 2023;(1):3–15. doi: 10.55959/MSU0579-9414.5.78.1.1 EDN: IIVSCI
- Aleksandrova GA, Polikarpov AV, Ogryzko EV, et al. Morbidity of the total population of Russia in 2014. Statistical materials. Part I. Moscow; 2015. 138 р. (In Russ.) URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/9479
- Aleksandrova GA, Polikarpov AV, Golubev NA, et al. Morbidity of the total population of Russia in 2015. Statistical materials. Part I. Moscow; 2016. 139 р. (In Russ.) URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2015-god
- Aleksandrova GA, Polikarpov AV, Golubev NA, et al. Morbidity of the total population of Russia in 2016. Statistical materials. Part I. Moscow; 2017. 140 р. (In Russ.) URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2016-god
- Kaprin AD, Starinsky VV, Gretsova OP, et al. Population-based registry of cancer patients in the Russian Federation. Public Health Panorama. 2019;5(1):99–102.
- Korobova EM, Baranchukov VS, Bech JA. Cartographic evaluation of the risk of natural elements’ deficiency in the soil cover provoking spatial variation of the endemic morbidity level (on example of thyroid morbidity among population of the Central Federal District, Russia). Environmental Geochemistry and Health. 2024;46(3):109. doi: 10.1007/s10653-024-01912-9 EDN: OKSAJG
- Alyabina IO, Androkhanov VA, Vershinin VV, et al. Unified state register of soil resources of Russia. Version 1.0. Tula: Grif i K; 2014. 768 p. (In Russ.) EDN: TNAMEB
- Korobova EM. Copper, cobalt and iodine in the natural landscapes of the Non-Chernozem Russian Plain [dissertation abstract]. Moscow; 1992. 23 p. (In Russ.) EDN: ZJJHMR
- Protasova NA, Sherbakov AP. Trace elements (Cr, V, Ni, Mn, Zn, Cu, Co, Ti, Zr, Ga, Be, Sr, Ba, B, I, Mo) in chernozems and gray forest soils of the Central Chernozem region. Voronezh: Voronezhskii gosudarstvennii universitet; 2003. 367 р. (In Russ.) EDN: QKVWMX
- Baranchukov V, Berezkin V, Kolmykova L. Dataset of iodine concentration in soils and grassland vegetation and radioactive contamination of pastures of the regions of the Russian Federation affected by the Chernobyl NPP accident. Data in Brief. 2024;55:110747. doi: 10.1016/j.dib.2024.110747 EDN: PUZLYV
- Proskuryakova GF, Nikitina ON. Accelerated version of the kinetic rhodanide-nitrite method for determination of trace quantities of iodine in biological objects. Agrohimia. 1976;(7):140–143. (In Russ.)
- Arinushkina EV. Manual on chemical analysis of soils. Moscow: MSU; 1970. 487 p. (In Russ.) URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3393272/
- Korobova EM, Baranchukov VS, Kurnosova IV, Silenok AV. Spatial geochemical differentiation of the iodine-induced health risk and distribution of thyroid cancer among urban and rural population of the Central Russian plain affected by the Chernobyl NPP accident. Environmental Geochemistry and Health. 2022;44(6):1875–1891. doi: 10.1007/s10653-021-01133-4 EDN: PCKTLY
- Yahryushin VN. Data on radioactive contamination of the territory of populated areas of the Russian Federation by cesium-137, strontium-90 and plutonium-239+240. Obninsk: Taifun; 2024. 225 р. (In Russ.) URL: https://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/ezhegodniki/rzrf/ezheg_rzrf_2024.pdf
- Zvonova I, Krajewski P, Berkovsky V, et al. Validation of 131I ecological transfer models and thyroid dose assessments using Chernobyl fallout data from the Plavsk district, Russia. Journal of Environmental Radioactivity. 2010;101(1):8–15. doi: 10.1016/j.jenvrad.2009.08.005 EDN: MXIQAP
- Konarbayeva GA, Smolyentsev BA. Spatial-genetic features of iodine distribution in soils of Western Siberia. Agrohimia. 2018;(7):85–96. doi: 10.1134/S0002188118070074 EDN: UWYHDX
- Ploibat AR, Voloshin EI. Monitoring of iodine in the soil — plant system (review). Bulletin of KSAU. 2020;(10):101–108. doi: 10.36718/1819-4036-2020-10-101-108 EDN: PCASUF
- Kovalsky VV, Andrianova GA. Microelements in the soil of the USSR. Moscow: Nauka; 1970. 179 р. (In Russ.) URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007401791
- Boyev VA. Selenium in the soils and agricultural plants in the south of the Tyumen region . Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology. 2013(12):112–120. EDN: SEPHCD
- Protasova NA, Gorbunova NS, Belyaev AB. biogeochemistry of microelements in common chernozem Voronezh region. Proceedings of Voronezh State University. Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. 2015;(4):100–106. EDN: VWNFDZ
- Berezkin VYu, Baranchukov VS, Kolmykova LI, et al. Iodine in soils, pasture vegetation cuttings, and local food products of certain regions of Russia affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. RUDN Journal of Ecology and Life Safety. 2023;31(4):419–434. doi: 10.22363/2313-2310-2023-31-4-419-434 EDN: QOBCFE
- de Benoist B., editor. Iodine status worldwide: WHO Global Database on Iodine Deficiency. Geneva: World Health Organization; 2004. 49 р. ISBN: 92 4 159200 1
- The iodine global network. Global scorecard of iodine nutrition in 2023 in the general population based on school-age children (SAC). Ottawa: IGN; 2023. 14 р. URL: https://ign.org/app/uploads/2024/01/Scorecard_2023_References_July-2023_Final.pdf
- Urinary iodine concentrations for determining iodine status deficiency in populations. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization; 2013. 5 р. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85972/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf?sequence=1
- Troshina EA, Makolina NP, Senyushkina ES, et al. Iodine deficiency disorders: current state of the problem in the Bryansk region. Problems of Endocrinology. 2021;67(4):84–93. doi: 10.14341/probl12793 EDN: FHDRJG
- Melnichenko GA, Troshina EA, Platonova NM, et al. Iodine deficiency thyroid disease in the Russian Federation: the current state of the problem. Аnalytical review of publications and data of official state statistics (Rosstat). Consilium Medicum. 2019;21(4):14–20. doi: 10.26442/20751753.2019.4.190337 EDN: ZUPEUH
- Ivanov SV, Guk MG, Sorokina LE, Hygienic evaluation of relative status in various regions of the Russian Federation. Natsional'naya Assotsiatsiya Uchenykh. 2018;(11):4–8. EDN: XRHJSH
- Golubkina NA, Sindireva AV, Zaitsev VF. Interigional variability of the human selenium status. South of Russia: Ecology, Development. 2017;12(1):107–127. doi: 10.18470/1992-1098-2017-1-107-127 EDN: YIELCF
- Shantyr II, Yakovleva MV, Vlasenko MA, et al. Determination results of selenium concentration in bioassays of residents of the North-Western region. Preventive And Clinical Medicine. 2022;(2):31–36. doi: 10.47843/2074-9120_2022_2_31 EDN: BLDPCW
- Kolmykova LI, Korobova EM, Baranchukov VS, et al. Chemical composition of groundwater used for drinking in conditions of natural deficiency of iodine and selenium and evaluation of its health effect: the case of Bryansk region (Russia). Environmental Geochemistry and Health. 2021;43(12):4987–5009. doi: 10.1007/s10653-021-01022-w EDN: WBLYGR
- Cardis E, Kesminiene A, Ivanov V., et al. Risk of thyroid cancer after exposure to 131I in childhood. J Natl Cancer Inst. 2005;97(10):724–732. doi: 10.1093/jnci/dji129
- Bogović Crnčić T. Risk factors for thyroid cancer: what do we know so far? Acta Clinica Croatica. 2020;59(Suppl 1):66–72. doi: 10.20471/acc.2020.59.s1.08
- Laikam KE, editor. Diet of the population. Moscow: Statistika Rossii; 2016. 220 р. (In Russ.) EDN: XDLNHH
- Fei X, Wu J, Liu Q, et al. Spatiotemporal analysis and risk assessment of thyroid cancer in Hangzhou, China. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2016;30:2155–2168. doi: 10.1007/s00477-015-1123-4
- Hatch M, Polyanskaya O, McConnell R, et al. Urinary iodine and goiter prevalence in belarus: experience of the Belarus–American cohort study of thyroid cancer and other thyroid diseases following the chornobyl nuclear accident. Thyroid. 2011;21(4):429–437. doi: 10.1089/thy.2010.0143
- Salminen R., editor. Geochemical atlas of Europe. Part 1: Background Information, Methodology and maps. Helsinki: Geological Survey of Finland; 2005. 526 р. ISBN: 9516909213
- López-Abente G, Aragonés N, Pérez-Gómez B, et al. Time trends in municipal distribution patterns of cancer mortality in Spain. BMC Cancer. 2014;14:535 doi: 10.1186/1471-2407-14-535
- Abbag FI, Abu-Eshy SA, Mahfouz AA, et al. Iodine-deficiency disorders in the Aseer region, south-western Saudi Arabia: 20 years after the national survey and universal salt iodization. Public Health Nutr. 2015;18(14):2523–2529. doi: 10.1017/S1368980014003073
Supplementary files