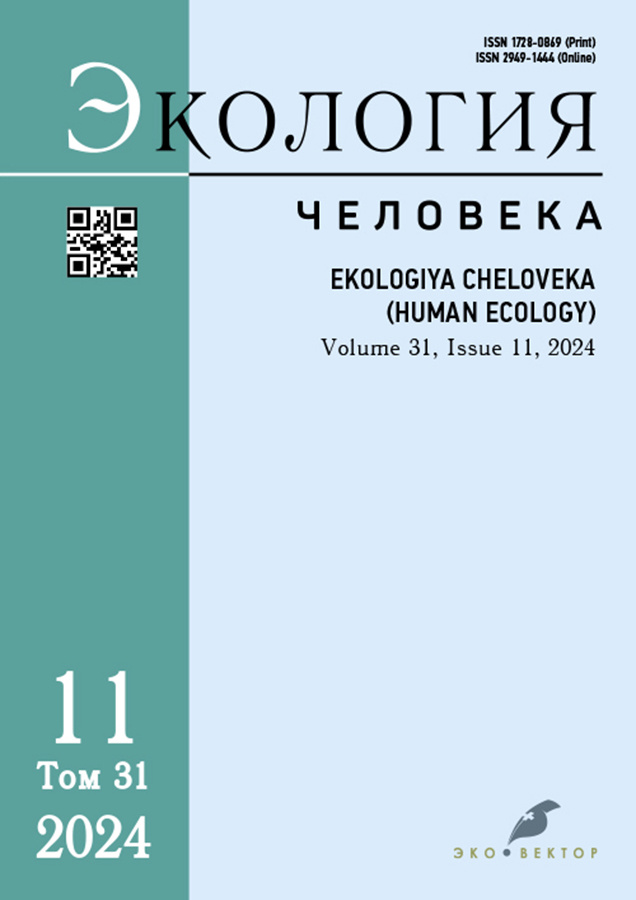Standard functional near-infrared spectroscopy parameters in young adults living in different regions of European Russia
- Authors: Mulik A.B.1, Ulesikova I.V.1, Nazarov N.O.2, Kunavin M.A.3, Soloviev A.G.4, Shatyr Y.A.1
-
Affiliations:
- Kirov Military Medical Academy
- Change Implementation Center of the Ministry of Health of the Moscow Region
- Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
- Northern State Medical University
- Issue: Vol 31, No 11 (2024)
- Pages: 807-818
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 25.12.2024
- Accepted: 07.04.2025
- Published: 28.06.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/643398
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco643398
- EDN: https://elibrary.ru/EQNEBN
- ID: 643398
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: In recent years, numerous studies have attempted to compare the results of functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) obtained by different authors using various devices. To reach a consensus on standardizing fNIRS parameters, interpreting data, and ensuring reproducibility, comparative assessments of these parameters in healthy individuals from different geographical and climatic regions are needed.
AIM: To characterize standard fNIRS parameters in young adults living in various environmental conditions.
MATERIALS AND METHODS: The study included 100 clinically healthy Caucasian men and women aged 18–25 years, all native residents of three regions in European Russia: Arkhangelsk Oblast, Volgograd Oblast, and the Republic of Crimea. Hemodynamic responses of the cerebral cortex in the near-infrared range were assessed using the Cortivision Poton Cap C20 device (Cortivision, Poland). The experimental protocol consisted of three stages: Stage 1: baseline fNIRS recording with eyes open (30ʹ); Stage 2: administration of the following tasks: Simple Visual-Motor Reaction (2ʹ), Complex Visual-Motor Reaction (2ʹ), and Kraepelin Test (3ʹ); Stage 3: post-task fNIRS recording with eyes open (1ʹ). For subsequent data analysis, mean fNIRS values of HbO and HbR concentrations (mmol/L) were used for both the baseline and post-task stages.
RESULTS: Comparative analysis of regional differences in baseline and post-task fNIRS values revealed no statistically significant differences between participants from the modeled regions, which varied considerably in environmental comfort scores (6 points for Arkhangelsk Oblast, 17 points for Volgograd Oblast, 25 points for the Republic of Crimea). At the same time, clear differences in the baseline expression of fNIRS parameters were observed between the sampled groups of male and female participants. Repeatedly observed unidirectional differences in baseline HbO and HbR concentrations between male and female participants were identified in the same cortical areas. In both cases, statistically significant differences in concentrations were identified in symmetrical frontal (AF4–AFp2, AF3–AFp1) and temporal (FTT8–T8, FTT7–T7) leads. In women, higher values were recorded in the frontal cortex, whereas in men, the concentrations of the studied forms of hemoglobin were higher in the temporal regions.
CONCLUSION: The study characterized standard fNIRS parameters in young adults residing in varied environmental conditions. The presented data will contribute to improving the reliability and reproducibility of studies conducted using fNIRS technology, thereby facilitating the implementation of advanced neuroimaging methods in both research and clinical practice.
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIRS) — неинвазивная, простая в использовании методика визуализации уровня оксигенации кортикальных отделов головного мозга, позволяющая изучать их нормальную работу и нарастающие патологические изменения в условиях реальной жизнедеятельности [1]. Посредством применения пар оптодов (излучателя и детектора света) осуществляется спектроскопия различных участков головного мозга. Изменения в количестве рассеянного света, фиксируемого детектором, соответствуют изменениям оптических свойств ткани в рабочей зоне оптодов. Из-за низкой поглощающей способности гемоглобина в диапазоне длин волн от 650 до 1000 нм свет в ближнем инфракрасном диапазоне может проникать на несколько сантиметров сквозь кожу головы, череп и в отражённом виде, достигая детектора, характеризовать концентрацию оксигенированного (HbO) и деоксигенированного (HbR) гемоглобина в тканях мозга.
Количество исследований в этой области за последние десятилетия резко возросло параллельно с ростом доступности коммерческих систем fNIRS. В связи с этим появляются многочисленные попытки соотнесения результатов fNIRS, полученных разными авторами с использованием различной приборной базы, что усложняет интерпретацию и воспроизведение экспериментальных данных [2]. Для достижения консенсуса в нормировании показателей fNIRS требуется их сравнительная оценка в группах здоровых людей, проживающих в различных условиях внешней среды. Наиболее актуальным является изучение выраженности стандартных показателей fNIRS в зависимости от географической широтной зональности места жительства, более всего отражающей природную комфортность жизнедеятельности человека. Результаты ряда исследований свидетельствуют о влиянии различных, в том числе социальных, факторов окружающей среды на структурные и функциональные свойства головного мозга [3, 4]. Отмечается положительное влияние эстетичности природной среды и негативное — экстремальных погодных условий на функциональное состояние центральной нервной системы [5]. Определена роль комфортности и эстетичности среды обитания в становлении фенотипического и социального статуса человека [6]. Кроме этого, необходимо учитывать пол как возможный фактор влияния на выраженность показателей fNIRS. В качестве объекта исследования представляется целесообразным привлечение студенческой молодёжи как группы населения, наименее зависимой от негативного воздействия ситуативных факторов среды, способных повлиять на функциональное состояние центральной нервной системы.
Цель исследования. Охарактеризовать проявление стандартных показателей fNIRS у молодых людей, проживающих в различных условиях среды жизнедеятельности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования были отобраны студенты государственных вузов, являющиеся коренными жителями трёх регионов европейской части России: Архангельской области (16 мужчин, средний возраст 20,1 года, SD 1,82; 17 женщин, средний возраст 18,8 года, SD 1,48), Волгоградской области (16 мужчин, средний возраст 20,4 года, SD 2,44; 17 женщин, средний возраст 19,8 года, SD 1,56) и Республики Крым (17 мужчин, средний возраст 19,3 года, SD 1,26; 17 женщин, средний возраст 19,9 года, SD 2,59). Всего было 49 мужчин и 51 женщина. Условиями включения студентов в выборочную совокупность являлось следующее: возраст 18–25 лет, достаточный для устойчивой сформированности функционального и структурного статуса организма, но не выходящий за рамки восходящего периода развития человека; отсутствие хронических соматических и неврологических заболеваний; наличие полной, социально благополучной родительской семьи; отсутствие финансовых и бытовых проблем. Соблюдались принципы Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека: статьи 4 (благо и вред), 5 (самостоятельность и индивидуальная ответственность), 6 (согласие) и 9 (неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность). Выбор модельных регионов был обусловлен разным географическим положением и существенным перепадом комфортности среды обитания. Степень комфортности — интегральный показатель, основанный на 30 параметрах окружающей среды, согласно данным Национального атласа России, для Архангельской области соответствует уровню дискомфортности (крайне интенсивный природный прессинг на здоровье людей), для Волгоградской области — уровню гипокомфортности (интенсивный природный прессинг на здоровье людей), для Республики Крым — уровню комфортности (умеренный природный прессинг на здоровье людей) [7].
Для оценки гемодинамического ответа коры головного мозга в ближнем инфракрасном диапазоне применяли прибор Cortivision Poton Cap C20 (Cortivision, Польша). Данный прибор наиболее широко используется в научных организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом, в том числе при выполнении физиологических исследований на Международной космической станции компанией Axiom Space (Хьюстон, США), сотрудничающей с НАСА. Прибор сертифицирован и соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС N RU Д-PL.РА03.В.20841/21 от 03.12.2021, срок действия — до 02.12.2026). Cortivision Poton Cap C20 укомплектован 20 оптодами (10 источников и 10 детекторов) с частотой дискретизации 7,8125 Гц. Оптоды неинвазивно фиксируются на голове обследуемого путём установки в гнезда эластичной шапочки «Easycap». При этом 8 пар оптодов размещались по международной системе 10–20 в лобных, теменных, височных и затылочных регионах в левом и правом полушариях (F3 и F4; P3 и P4; T7 и T8; O1 и O2 соответственно); ещё 2 пары оптодов были размещены для исследования префронтальной области коры (AF3 и AF4) (табл. 1).
Таблица 1. Схема отведения оптодов функциональной ближней инфракрасной спектроскопии
Table 1. Optode placement scheme for functional near-infrared spectroscopy
Номер канала Channel No. | Тип датчика Sensor type | Соответствие датчика отведениям ЭЭГ Corresponding EEG electrode | Место съёма Recording site |
1 | Источник | Emitter | F4 | Правая лобная кора Right frontal cortex |
Детектор | Detector | F6 | ||
2 | Источник | Emitter | F3 | Левая лобная кора Left frontal cortex |
Детектор | Detector | F5 | ||
3 | Источник | Emitter | AF4 | Правая лобная кора Right frontal cortex |
Детектор | Detector | AFp2 | ||
4 | Источник | Emitter | AF3 | Левая лобная кора Left frontal cortex |
Детектор | Detector | AFp1 | ||
5 | Источник | Emitter | FTT8h | Правая височная кора Right temporal cortex |
Детектор | Detector | T8 | ||
6 | Источник | Emitter | FTT7h | Левая височная кора Left temporal cortex |
Детектор | Detector | T7 | ||
7 | Источник | Emitter | P3 | Левая теменная кора Left parietal cortex |
Детектор | Detector | CPP5h | ||
8 | Источник | Emitter | P4 | Правая теменная кора Right parietal cortex |
Детектор | Detector | CPP6h | ||
9 | Источник | Emitter | O1 | Левая затылочная кора Left occipital cortex |
Детектор | Detector | OL1h | ||
10 | Источник | Emitter | O2 | Правая затылочная кора Right occipital cortex |
Детектор | Detector | OL2h |
Схема исследования включала в себя 3 этапа: 1-й этап — фон fNIRS с открытыми глазами (30ʹ); 2-й этап — предъявление теста «Простая зрительно-моторная реакция» (2ʹ) + предъявление теста «Сложная зрительно-моторная реакция» (2ʹ) + предъявление теста «Крепелин» (3ʹ); 3-й этап — постнагрузочные значения fNIRS с открытыми глазами (1ʹ). Для последующего анализа данных учитывали среднеарифметические значения показателей концентрации HbO и HbR (ммоль/л) на этапе фона и постнагрузочных значений fNIRS. Статистическую обработку результатов проводили в программе SPSS для Windows (ver. 20). Потенциальное влияние среды обитания на функциональное состояние центральной нервной системы жителей модельных регионов (Архангельская и Волгоградская области, Республика Крым) оценивали посредством однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). В качестве основных характеристик распределения признаков использовали следующие значения: среднее арифметическое (M); ошибка среднего (m); медиана (Me); интервальный размах (Q25, Q75). Нормальность распределения первичных данных определяли по критерию Колмогорова–Смирнова. Полученные результаты свидетельствовали о ненормальном распределении значений исследуемых показателей, что послужило основанием для использования непараметрических методов статистики для последующего анализа данных. Для сравнительной оценки половых различий по показателям fNIRS применяли U-критерий Манна–Уитни, статистическую значимость различий принимали при p <0,05.
Участие в исследовании было добровольным. До включения в исследование все участники выразили информированное согласие. Исследование проводилось в ноябре 2024 г. и было одобрено этическим комитетом Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Россия), протокол № 295 от 22.10.2024.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наличие артефактов физического или биологического происхождения в результатах ЭЭГ или fNIRS послужило основанием для исключения из последующего статистического анализа 5 испытуемых женщин, в том числе двух представительниц Волгоградской области, двух представительниц Республики Крым и одной жительницы Архангельской области. Сравнительная выраженность фоновых и постнагрузочных значений показателей fNIRS с учётом региональной принадлежности испытуемых отражена на рис. 1–4 (HbO в группах мужчин и женщин, HbR в группах мужчин и женщин). По каждому из 10 каналов fNIRS методом однофакторного дисперсионного анализа выполнен расчёт p-значения различий исследуемых показателей между выборочными совокупностями модельных регионов (1 — Архангельская область, 2 — Волгоградская область, 3 — Республика Крым).
Рис. 1. Фоновые и постнагрузочные значения концентрации HbO (ммоль/л) в группах мужчин, проживающих в Архангельской области (регион 1), Волгоградской области (регион 2), Республике Крым (регион 3).
Fig. 1. Baseline and post-load HbO concentrations (mmol/L) in male groups residing in Arkhangelsk Oblast (Region 1), Volgograd Oblast (Region 2), and the Republic of Crimea (Region 3).
Рис. 2. Фоновые и постнагрузочные значения концентрации HbO (ммоль/л) в группах женщин, проживающих в Архангельской области (регион 1), Волгоградской области (регион 2), Республике Крым (регион 3).
Fig. 2. Baseline and post-load HbO concentrations (mmol/L) in female groups residing in Arkhangelsk Oblast (Region 1), Volgograd Oblast (Region 2), and the Republic of Crimea (Region 3).
Рис. 3. Фоновые и постнагрузочные значения концентрации HbR (ммоль/л) в группах мужчин, проживающих в Архангельской области (регион 1), Волгоградской области (регион 2), Республике Крым (регион 3).
Fig. 3. Baseline and post-load HbR concentrations (mmol/L) in male groups residing in Arkhangelsk Oblast (Region 1), Volgograd Oblast (Region 2), and the Republic of Crimea (Region 3).
Рис. 4. Фоновые и постнагрузочные значения концентрации HbR (ммоль/л) в группах женщин, проживающих в Архангельской области (регион 1), Волгоградской области (регион 2), Республике Крым (регион 3).
Fig. 4. Baseline and post-load HbR concentrations (mmol/L) in female groups residing in Arkhangelsk Oblast (Region 1), Volgograd Oblast (Region 2), and the Republic of Crimea (Region 3).
В табл. 2 представлены результаты сравнительного анализа фоновых значений показателей fNIRS по каждому отведению между выборочной совокупностью всех мужчин и всех женщин, ставших участниками исследования.
Таблица 2. Сравнительная характеристика выраженности фоновых значений показателей функциональной ближней инфракрасной спектроскопии между выборочной совокупностью мужчин и выборочной совокупностью женщин
Table 2. Comparative characteristics of baseline functional near-infrared spectroscopy values between male and female sampled groups
Отведения Leads | HbO, ммоль/л (M±m); Me (p25; p75) HbO (mmol/L), M±m; Me (Q25; Q75) | p | HbR, ммоль/л (M±m); Me (p25; p75) HbR(mmol/L), M±m; Me (Q25; Q75) | p | ||
Мужчины Men (n=49) | Женщины Women (n=46) | Мужчины Men (n=49) | Женщины Women (n=46) | |||
F4-F6 | 0,0230±0,0009; 0,021 (0,021; 0,024) | 0,0560±0,0214; 0,023 (0,020; 0,037) | 0,037 | 0,0230±0,0009; 0,021 (0,020; 0,022) | 0,0490±0,0213; 0,021 (0,020; 0,026) | 0,346 |
F3-F5 | 0,0270±0,0022; 0,022 (0,021; 0,025) | 0,0410±0,0070; 0,023 (0,021; 0,034) | 0,167 | 0,0240±0,0012; 0,022 (0,021; 0,023) | 0,0320±0,0044; 0,022 (0,021; 0,027) | 0,926 |
AF4-AFp2 | 0,1060±0,0297; 0,032 (0,024; 0,077) | 0,2960±0,0402; 0,202 (0,068; 0,475) | <0,001 | 0,0660±0,0179; 0,025 (0,022; 0,05) | 0,1130±0,0167; 0,077 (0,034; 0,160) | <0,001 |
AF3-AFp1 | 0,0680±0,0175; 0,026 (0,022; 0,067) | 0,2470±0,0383; 0,136 (0,049; 0,336) | <0,001 | 0,0580±0,0178; 0,022 (0,021; 0,042) | 0,1110±0,0162; 0,065 (0,029; 0,175) | <0,001 |
FTT8-T8 | 0,3380±0,0507; 0,153 (0,059; 0,621) | 0,1100±0,0318; 0,025 (0,021; 0,063) | <0,001 | 0,1140±0,0237; 0,060 (0,028; 0,16) | 0,0410±0,0070; 0,022 (0,021; 0,027) | <0,001 |
FTT7-T7 | 0,3230±0,0493; 0,179 (0,045; 0,69) | 0,0700±0,0215; 0,022 (0,021; 0,028) | <0,001 | 0,1020±0,0124; 0,071 (0,026; 0,176) | 0,0330±0,0050; 0,021 (0,021; 0,023) | <0,001 |
P3-CPP5h | 0,0320±0,0041; 0,023 (0,021; 0,028) | 0,0640±0,0230; 0,021 (0,021; 0,027) | 0,302 | 0,0240±0,0013; 0,022 (0,021; 0,023) | 0,0330±0,0061; 0,021 (0,020; 0,022) | 0,142 |
P4-CPP6h | 0,0310±0,0043; 0,022 (0,021; 0,03) | 0,0780±0,0259; 0,022 (0,021; 0,029) | 0,923 | 0,0230±0,0012; 0,021 (0,021; 0,022) | 0,0380±0,0086; 0,021 (0,02; 0,022) | 0,155 |
O2-OL2h | 0,0300±0,0036; 0,025 (0,023; 0,027) | 0,0530±0,0217; 0,022 (0,02; 0,028) | 0,050 | 0,0270±0,0029; 0,023 (0,022; 0,026) | 0,0490±0,0213; 0,022 (0,02; 0,025) | 0,271 |
O1-OL1h | 0,0250±0,0012; 0,022 (0,021; 0,025) | 0,0300±0,0046; 0,021 (0,02; 0,023) | 0,035 | 0,0220±0,0005; 0,021 (0,021; 0,023) | 0,0270±0,0039; 0,021 (0,02; 0,022) | 0,066 |
Примечание. Значения р, соответствующие статистической значимости, выделены полужирным.
Note. The p-values corresponding to statistical significance are shown in bold.
ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ региональной выраженности фоновых и постнагрузочных значений показателей fNIRS не выявил статистически значимых различий между представителями населения модельных регионов, характеризующихся существенным перепадом уровня комфортности среды обитания (Архангельская область — 6 баллов, Волгоградская область — 17 баллов, Республика Крым — 25 баллов) [6]. Также не выявлено статистически значимых различий между фоновыми и постнагрузочными значениями исследуемых показателей в рамках каждого модельного региона. При этом полученные результаты подтверждают данные недавнего исследования Khan и соавт. [8] о сходстве фоновых значений HbR и HbO. Отсутствие значимых различий содержания HbO и HbR между региональными выборками испытуемых, проживающих на территориях с различным уровнем комфортности среды обитания, вероятно, обусловлено относительной генетической и фенотипической однородностью славянского населения Архангельской, Волгоградской областей и Республики Крым. В ранее выполненных собственных исследованиях по ряду показателей генетического и фенотипического статуса подтверждена однородность жителей данных территорий [9, 10]. Некоторые изученные гены (COMT, CACNA1D, CACNA2D3) обусловливают регуляцию сосудистого тонуса и церебрального кровотока [11–13]. Это подтверждает отсутствие генетических предпосылок к выраженным различиям структурных и функциональных свойств головного мозга у представителей населения исследуемых территорий.
Вместе с тем наглядно проявляются различия фоновой выраженности показателей fNIRS между выборочной совокупностью мужчин и выборочной совокупностью женщин, участвовавших в исследовании. Обращает на себя внимание повторяемость однонаправленных отличий между мужчинами и женщинами, обнаруженных в фоновых значениях HbO и HbR в одних и тех же областях коры головного мозга. В обоих случаях статистически значимые различия концентраций были определены в симметричных лобных (AF4-AFp2, AF3-AFp1) и височных (FTT8-T8, FTT7-T7) отведениях. При этом в выборке женщин зарегистрированы более высокие значения показателей в лобных отделах коры больших полушарий, а у мужчин, наоборот, концентрации изучаемых форм гемоглобина были выше в височных отделах. Важно отметить, что речь в данном случае идёт не о перераспределении концентраций HbO и HbR вследствие активации различных областей головного мозга, что сопровождалось бы разнонаправленными отличиями показателей, а о более высоких значениях содержания общего гемоглобина в височных отделах у мужчин и в лобных отделах у женщин.
Вероятным обоснованием обнаруженных половых различий могут быть не функциональные особенности работы структур головного мозга, а, скорее всего, морфофизиологические особенности мужского и женского организма. Одним из базовых различий в концентрации гемоглобина у мужчин и женщин является его зависимость от уровня половых гормонов. Широко известно, что в присутствии андрогенов происходит стимуляция эритропоэза, что, в частности, приводит к более высоким значениям числа эритроцитов и концентрации гемоглобина у мужчин по сравнению с женщинами (8,56–11,17 и 7,51–9,37 ммоль/л соответственно). Аналогичные отличия были выявлены с использованием методики fNIRS в исследованиях R.L.D. Kan и соавт. [14] и Н. Auger и соавт. [15]. Однако влиянием только гормонального фона не может быть объяснена специфика в локализации выявленных различий.
Другим фактором возможного влияния на регистрацию показателей fNIRS являются особенности регионального кровоснабжения. В литературе имеются данные, указывающие на существующие половые различия гемодинамических характеристик мозговых артерий, питающих ткани головного мозга [16]. Так, у лиц мужского и женского пола различаются диаметр внутренних сонных артерий, объёмная скорость кровотока и параметры сосудистого сопротивления. Эти же различия характерны и для средней мозговой артерии, которая питает ткани лобной и височной долей головного мозга.
В качестве потенциальной причины различий выраженности показателей fNIRS у мужчин и женщин является половая специфика развития жевательных мышц головы, в особенности височной (лат. musculus temporalis), тело которой располагается в зоне височных отведений оптодов. Развитие скелетной мускулатуры подвержено воздействию со стороны мужских половых гормонов, что приводит к росту её массы и силы [17]. Исследования с использованием методики fNIRS подтверждают, что мужчины, обладая большей мышечной массой и более активными метаболическими процессами в них, действительно отличаются от женщин по регистрируемым показателям HbO и HbR [18].
Наконец, нельзя исключать различия в толщине и структуре тканей головы у мужчин и женщин. Методика fNIRS основана на проникновении лучей ближнего инфракрасного диапазона сквозь ткани головы (кожу, подкожно-жировую клетчатку, фасции, кости черепа) и поглощению их молекулами гемоглобина, концентрация которого рассчитывается как разность в интенсивности светового пучка на выходе (источник) и входе (детектор) [19]. Несмотря на то что ткани головы практически прозрачны для света в этом диапазоне, увеличение их толщины может приводить к излишнему поглощению и рассеиванию лучей и, как следствие, к снижению значений регистрируемых показателей. В этой связи важно отметить, что мужчины обладают более развитым слоем жировой ткани, а также более толстой лобной костью черепа, что используется в антропологических исследованиях для подтверждения половой принадлежности [20, 21].
Таким образом, следует признать отсутствие однозначного определения причин различий выраженности стандартных показателей fNIRS между мужчинами и женщинами. Видимо, это результат полифакторного влияния специфики эндогенных фенотипических особенностей организма мужчин и женщин, связанных с проявлением физических эффектов в технологии fNIRS. Тем не менее результаты выполненного исследования конкретизируют значения стандартных показателей fNIRS с учётом пола человека.
Ограничения исследования. Представленное исследование имеет определённые ограничения. Одним из них является сравнительно малый объём выборочной совокупности, не отвечающий требованиям организации поперечного исследования [22]. Для более точного и обобщающего анализа региональной выраженности фоновых и постнагрузочных значений показателей fNIRS в последующем необходимо увеличить количество участников исследования. Результаты работы не могут распространяться на детей и подростков, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими и неврологическими заболеваниями. Нельзя не отметить, что данное исследование ограничено территориями трёх регионов, физико-географические характеристики которых не охватывают всего реально существующего спектра климатических особенностей европейской части России. Отсутствие аналогичных исследований в границах территории Российской Федерации и нормативных значений показателей fNIRS не позволяет полноценно интерпретировать эмпирически полученные результаты, не имеющие «точки отсчёта». Результаты предпринятого исследования определяют целесообразность дальнейшего всестороннего изучения и проверки на других группах населения в различных физико-географических, биогеохимических и социальных условиях среды, региональной выраженности фоновых и постнагрузочных значений показателей fNIRS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпринятое исследование определило отсутствие статистически значимых различий выраженности фоновых и постнагрузочных значений показателей fNIRS между представителями населения модельных регионов европейской части России, характеризующихся существенным перепадом уровня комфортности среды обитания. Вероятнее всего, это обусловлено относительной генетической и фенотипической однородностью славянского населения Архангельской, Волгоградской областей и Республики Крым. Также не определено статистически значимых различий между фоновыми и постнагрузочными значениями исследуемых показателей в рамках каждого модельного региона. Выявленные различия в значениях фоновой концентраций HbO и HbR между выборочной совокупностью мужчин и выборочной совокупностью женщин подтверждают необходимость учёта пола при выполнении исследований fNIRS. Представленные данные будут способствовать повышению надёжности и воспроизводимости результатов исследований, выполненных с использованием технологии fNIRS, и тем самым стимулировать внедрение передовых методов нейровизуализации функций мозга в исследовательскую деятельность и клиническую практику.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. А.Б. Мулик — концепция и дизайн исследования, анализ данных, редактирование статьи; И.В. Улесикова — сбор материала и первичная обработка результатов исследования; Н.О. Назаров — статистическая обработка результатов исследования; М.А. Кунавин — сбор материала и первичная обработка результатов исследования; А.Г. Соловьёв — анализ данных и интерпретация результатов исследования; Ю.А. Шатыр — обзор литературы, написание текста. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведения исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Россия), протокол № 295 от 22.10.2024.
Согласие на публикацию. Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.
Источники финансирования. Работа выполнена в рамках реализации НИР по программе академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: A.B. Mulik: conceptualization, formal analysis, writing—review & editing; I.V. Ulesikova: investigation; N.O. Nazarov: formal analysis; M.A. Kunavin: investigation; A.G. Soloviev: formal analysis, interpretation of results; Yu.A. Shatyr: sources review, writing—original draft. All authors confirm that their authorship meets the ICMJE criteria (all authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication).
Ethics approval: The study was approved by the Local Ethics Committee of the S.M. Kirov Military Medical Academy (Saint Petersburg, Russia), Protocol No. 295 dated October 22, 2024.
Consent for publication: All participants provided written informed consent prior to inclusion in the study.
Funding sources: This work was part of the Priority 2030 Strategic Academic Leadership Program.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
About the authors
Aleksandr B. Mulik
Kirov Military Medical Academy
Author for correspondence.
Email: mulikab@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6472-839X
SPIN-code: 8079-9698
Scopus Author ID: 57194478275
ResearcherId: U-2142-2017
Dr. Sci. (Biology), Professor
Russian Federation, Saint PetersburgIrina V. Ulesikova
Kirov Military Medical Academy
Email: ulesikovairina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9284-3280
SPIN-code: 9859-6036
Scopus Author ID: 57194476699
ResearcherId: D-3502-2016
Cand. Sci. (Biology)
Russian Federation, Saint PetersburgNikita O. Nazarov
Change Implementation Center of the Ministry of Health of the Moscow Region
Email: naznik86@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0668-4664
SPIN-code: 9126-2809
Scopus Author ID: 57195288897
ResearcherId: GON-7330-2022
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, KrasnogorskMikhail A. Kunavin
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Email: m.kunavin@narfu.ru
ORCID iD: 0000-0001-7948-1043
SPIN-code: 5271-0260
Scopus Author ID: 56089688500
ResearcherId: HKE-1458-2023
Cand. Sci. (Biology), Associate Professor
Russian Federation, ArkhangelskAndrey G. Soloviev
Northern State Medical University
Email: asoloviev1@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0350-1359
SPIN-code: 2952-0619
Scopus Author ID: 7103242976
ResearcherId: O-8644-2016
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, ArkhangelskYulia A. Shatyr
Kirov Military Medical Academy
Email: yuliashatyr@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9279-5282
SPIN-code: 2942-6250
Scopus Author ID: 57194476788
ResearcherId: U-2181-2017
Cand. Sci. (Biology), Associate Professor
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Ferrari M, Quaresima V. A brief review on the history of human functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) development and fields of application. Neuroimage. 2012;63(2):921–935. doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.03.049
- Yücel MA, Lühmann A, Scholkmann F, et al. Best practices for fNIRS publications. Neurophotonics. 2021;8(1):101–108. doi: 10.1117/1.NPh.8.1.012101
- Komleva YuK, Salmina AB, Prokopenko SV, et al. Changes in structural and functional plasticity of the brain induced by environmental enrichment. Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2013;68(6):39–48. doi: 10.15690/vramn.v68i6.672 EDN: QCVRFD
- Miguel PM, Pereira LO, Silveira PP, Meaney MJ. Early environmental influences on the development of children's brain structure and function. Dev Med Child Neurol. 2019;61(10):1127–1133. doi: 10.1111/dmcn.14182
- Smith L. Integrating the physical environment within a population neuroscience perspective. Curr Top Behav Neurosci. 2024;68:223–238. doi: 10.1007/7854_2024_477
- Mulik AB, Ulesikova IV, Mulik IG, et al. Comfort and aesthetics of the living environment as a determinant of an individual's phenotypic and social status. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2019;26(2):31–38. doi: 10.33396/1728-0869-2019-2-31-38 EDN: XLUHZE
- Characteristics of the sanitary system. In: National Atlas of Russia. Vol. 2. Nature. Ecology. Moscow; 2007. [cited 2025 Mar 20]. Available from: http://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd2/447/447 (In Russ.)
- Khan AF, Yuan H, Smith ZA, Ding L. Distinct time-resolved brain-wide coactivationsin oxygenated and deoxygenated hemoglobin. IEEE Trans Biomed Eng. 2024;71(8):463–472. doi: 10.1109/TBME.2024.3377109
- Shatyr YuA, Nazarov NO, Glushakov RI, et al. Search for genetic and phenotypical bases of human predisposition to risk behavior. Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Biology. Chemistry. 2023;9(3):291–299. EDN: ZOEYFS
- Mulik AB, Shatyr YuA, Ulesikova IV, et al. Sexual characteristics of genetic determination of human propensity to aggressive, suicidal and addcitve behavior: descriptive study. Marine medicine. 2024;10(3):94–107. doi: 10.22328/2413-5747-2024-10-3-94-107 EDN: FJLHJI
- Akil M, Kolachana BS, Rothmond DA, et al. Catechol-O-methyltransferase genotype and dopamine regulation in the human brain. J Neurosci. 2003;23(6):2008–2013. doi: 10.1523/JNEUROSCI.23-06-02008.2003
- Pinggera A, Lieb A, Benedetti B, et al. CACNA1D de novo mutations in autism spectrum disorders activate Cav1.3 L-type calcium channels. Biol Psychiatry. 2015;77(9):816–822. doi: 10.1016/j.biopsych.2014.11.020
- Dolphin AC. The α2δ subunits of voltage-gated calcium channels. Biochim Biophys Acta. 2013;1828(7):1541–1549. doi: 10.1016/j.bbamem.2012.11.019
- Kan RLD. Sex differences in brain excitability revealed by concurrent iTBS/fNIRS. Asian J Psychiatr. 2024;(96):40–43. doi: 10.1016/j.ajp.2024.104043
- Auger H, Bherer L, Boucher É, et al. Quantification of extra-cerebral and cerebral hemoglobin concentrations during physical exercise using time-domain near infrared spectroscopy. Biomed Opt Express. 2016;7(10):3826–3842. doi: 10.1364/BOE.7.003826
- Filatova OV, Sidorenko AA. Age and sex hemodynamic characteristics of cerebral arteries. Acta Biologica Sibirica. 2015;1(3–4):199–243. EDN: VARUGZ
- Ben Mansour G, Kacem A, Ishak M, et al. The effect of body composition on strength and power in male and female students. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021;13(1):130–150. doi: 10.1186/s13102-021-00376-z
- Keller JL, Traylor MK, Gray SM, et al. Sex differences in NIRS-derived values of reactive hyperemia persist after experimentally controlling for the ischemic vasodilatory stimulus. J Appl Physiol (1985). 2023;135(1):3–14. doi: 10.1152/japplphysiol.00174.2023
- Kwashnjova KV, Iljukhina WA, Kryghanowskiy EV, Chistow AV. Near-infrared topography and spectroscopy in the study of brain activity. Biotechnosfera. 2013;2(26):1–5. EDN: REXRPN
- Perlaza NA. Sex determination from the frontal bone: a geometric morphometric study. J Forensic Sci. 2014;59(5):1330–1332. doi: 10.1111/1556-4029.12467
- Garcovich D, Gasco A, Lorenzo A, et al. Sex estimation through geometric morphometric analysis of the frontal bone: an assessment in pre-pubertal and post-pubertal modern Spanish population. Int J Legal Med. 2022;136(1):319–328. doi: 10.1007/s00414-021-02712-x
- Kholmatova KK, Gorbatova MA, Kharkova OA, Grjibovski AM. Cross-sectional studies: planning, sample size, data analysis. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2016;23(2):49–56. doi: 10.33396/1728-0869-2016-2-49-56 EDN: VQGTNJ
Supplementary files