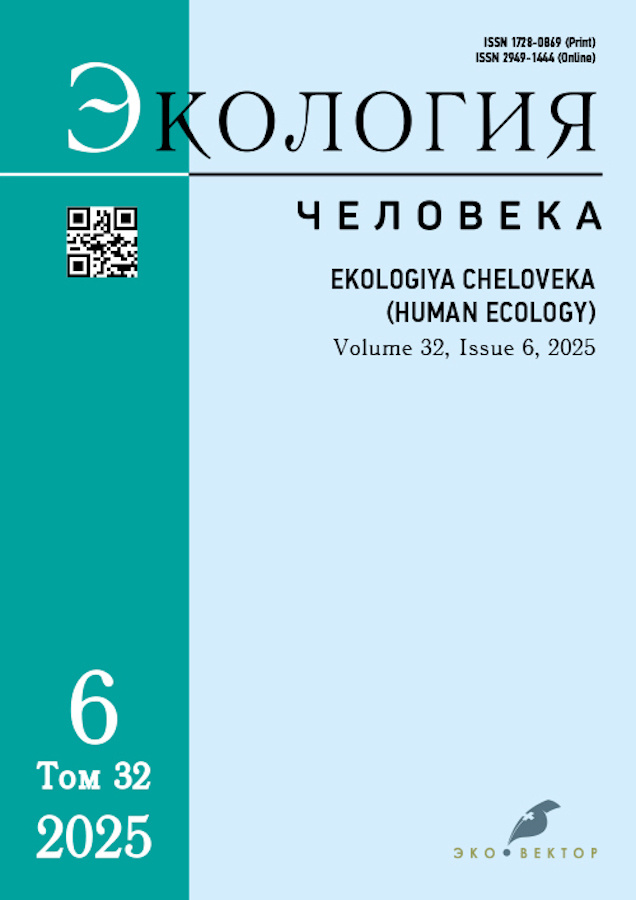Features of the hormonal status in pregnant women with different stress levels depending on lateral phenotype characteristics
- Authors: Botasheva T.L.1, Grigorian A.K.2, Deriglazova O.I.3, Kudrin R.A.2, Gorbaneva E.P.2, Zavodnov O.P.1
-
Affiliations:
- Rostov State Medical University
- Volgograd State Medical University
- Central District Hospital in Oblivsky district
- Issue: Vol 32, No 6 (2025)
- Pages: 399-412
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 11.03.2025
- Accepted: 12.07.2025
- Published: 24.08.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/677061
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco677061
- EDN: https://elibrary.ru/kdzkvb
- ID: 677061
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: The specific features of adaptive regulatory processes in pregnant women with prolonged residence in a war zone are of particular scientific interest due to the high stress vulnerability of this population. Morphofunctional asymmetries of the female body (lateral phenotype) are an important constitutional trait influencing stress resilience, in the formation of which the nervous and humoral regulatory systems play a leading role.
AIM: The work aimed to study the features of the hormonal status in pregnant women with varying stress levels caused by prolonged residence in a war zone, depending on the type of lateral constitution.
METHODS: Design: a prospective, selective, comparative study involving a non-random, stratified, continuous sample of respondents aged 18–28 years, with a first singleton pregnancy of uncomplicated course, no signs of obstetric condition according to clinical, hormonal, biochemical, ultrasound, and Doppler examinations, and who had lived in the corresponding region for at least three years prior to pregnancy. The study assessed the lateral phenotype, stress level, adaptive potential of the circulatory system, situational and trait anxiety, hormonal profile, hemogram and coagulation parameters.
RESULTS: Assessment of the lateral phenotype in pregnant women revealed a predominance of low stress levels in those with a right lateral phenotype, and high stress levels in those with an ambidextrous phenotype. A decrease in 6-sulfatoxymelatonin levels (by an average of 35.1%) and sex hormones (by 12.6%) was found in pregnant women from the Donetsk and Luhansk People’s Republics compared to residents of the Rostov Region. Depending on the lateral phenotype, the highest levels of stress-response hormones were observed in women with an ambidextrous phenotype. Multifactorial decision tree analysis established that in pregnant women from the Donetsk and Luhansk People’s Republics, the leading factors in mechanisms of stress resilience formation were the adaptive potential of the cardiovascular system, melatonin levels, sex and stress-liberating hormones, body mass index, and age. At the same time, in residents of the Rostov Region, the hierarchy of influencing factors was represented by stress-response hormones, situational anxiety level, and hematologic parameters.
CONCLUSION: In the ambidextrous type of lateral constitution, higher production of stress-response hormones combined with reduced melatonin production is significantly associated with the development of high stress levels, regardless of region of residence, indicating the highest stress vulnerability of this lateral constitution type compared to polar right and left lateral phenotypes. The higher prevalence of high stress levels (1.8-fold) in pregnant women with an ambidextrous phenotype from the Donetsk and Luhansk People’s Republics, compared with residents of the Rostov Region, indicates a more pronounced decrease in stress resilience in women who had lived in a war zone prior to relocation.
Keywords
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Оптимизация процессов вынашивания и рождения здоровых детей является одной из главных задач в решении демографических проблем не только в России, но и во многих странах Европы в связи с повсеместным снижением показателей прироста населения в последние годы [1, 2]. Ситуация усугубляется тем, что беременность стала протекать в условиях воздействия большого числа экстремальных стрессоров, обусловленных политической и социальной обстановкой в мире. Наиболее уязвимой категорией будущих матерей являются женщины, проживающие в зоне проведения военных действий. Помимо экстремальных внешних стрессоров в виде угрозы жизни, беременным приходится терпеть голод, температурные перепады в связи с утратой крова. Также у будущих матерей на фоне переживаний, связанных, с одной стороны, с опасностью для их жизни и здоровья, с другой — для жизни и здоровья плода, отсутствует возможность своевременного сна, что сопровождается сильными психологическими переживаниями с соответствующим психосоматическим откликом [3, 4]. Кроме того, помимо воздействия экстремальных стрессоров извне, сама беременность (по обилию вовлечённых в гестационную перестройку механизмов в материнском организме) представляет из себя стресс-потенцирующее функциональное состояние с высокой ценой адаптации, которое опосредует развитие целого ряда соматических осложнений как в репродуктивном периоде, так и на других этапах жизни женщины [5, 6].
В остром периоде экстремального состояния (стресса) возникает целый комплекс защитных, а в сфере метаболизма — калоригенных, гиперметаболических реакций, позволяющих на пределе функциональных возможностей обеспечить максимально достижимую эффективность работы жизненно важных органов [7–9]. В этот период организм жертвует всем для поддержания функции жизнеобеспечивающих систем, что неизбежно приводит к возникновению вторичных, иногда крайне тяжёлых повреждений метаболического характера не только в «ущемлённых» органах, но и во всём организме [8–10]. Причём при острых экстремальных состояниях толерантные механизмы вынужденно включаются в процесс, поддерживая функционирование, хотя и в резко ограниченных рамках, основных систем за счёт качественно иного метаболизма, реализуемого группой гормонов и биологически активных веществ как антагонистичных стрессовым (аденозин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота, ацетилхолин, некоторые нейропептиды), так и за счёт гормонов стрессового ряда, осуществляющих свой эффект через альтернативные рецепторы [7]. Степень выраженности этих изменений в значительной степени модулируется конституциональными особенностями женского организма [11]. К их числу относится латеральная конституция, или латеральный фенотип (ЛФ) [11–13]. Основой данного вида конституции являются межполушарные асимметрии мозга и висцеральные асимметрии [14–16]. Морфофункциональные асимметрии женского организма сформировались в результате периодически повторяющихся и эволюционно закрепившихся циклических процессов, происходящих в репродуктивной системе (овариально-менструальный цикл, гестация, роды, лактация), в результате чего возникла парная и биоритмическая организация репродуктивной системы [11, 17, 18]. Именно поэтому физиологические процессы в каждом из элементов функциональной системы «мать–плацента–плод» приобрели пространственно-временной (континуумный) характер. В экспериментальных исследованиях на беременных самках крыс было установлено, что крысы-правши являются более резистентными и адаптивными, чем левши и амбидекстры [11, 12]. У женщин с правым ЛФ и правосторонним расположением плаценты в матке реже развиваются психоэмоциональные и вегетативные нарушения и реже формируются акушерские осложнения [13, 15, 19]. Также доказано, что пространственная согласованность репродуктивных процессов на различных этапах жизни женщин реализуется только в соответствии с индивидуальным ЛФ [20–22].
Цель
Изучение особенностей гормонального статуса у беременных при различных уровнях стресса, обусловленных длительным проживанием в зоне военных действий, в зависимости от характера латеральной конституции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проспективное выборочное сравнительное исследование, предусматривающее неслучайный стратифицированный сплошной отбор респонденток.
Критерии соответствия
Критерии включения: возрастной диапазон — 18–28 лет, что обусловлено паритетом беременностей и родов (первобеременные, первородящие); первая одноплодная беременность с неосложнённым течением; отсутствие признаков акушерской патологии по итогам клинических, гормональных, биохимических, ультразвуковых и допплерометрических исследований, проживание в соответствующем регионе до наступления беременности не менее трёх лет, индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле) 18,5–24,0 кг/м2.
Критерии невключения: отягощённый акушерский и гинекологический анамнезы; повторные беременности; многоплодие; многоводие; генитальный инфантилизм; аномалии развития матки; врождённое укорочение шейки матки; наследственный фактор; беременности, наступившие в результате программ вспомогательных репродуктивных технологий; хромосомные аберрации и врождённые аномалии развития плода; декомпенсация экстрагенитальных заболеваний и эндокринопатий; оперативные вмешательства на репродуктивных органах, ИМТ (индекс Кетле) менее 18 и более 24,5 кг/м2.
Критерии исключения: отказ женщины от участия в исследовании на любом его этапе.
Условия проведения
Обследование женщин проходило на базе акушерских подразделений клиник и амбулаторий Ростовского НИИ акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. До выезда из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) беременные женщины-переселенцы проживали в населённых пунктах с сохранившейся инфраструктурой, имели доступ к медицинской помощи и не имели серьёзных ограничений в питании. Основным стрессором являлись регулярные обстрелы, бомбёжки, обусловливающие постоянную угрозу жизни и здоровью. При разрушении жилищ и объектов инфраструктуры беременные экстренно переезжали в Ростовскую область, где получали статус беженцев.
Продолжительность исследования
Исследование проводилось в 2018–2023 гг. Обследование беременных начинали через 10–15 дней после прибытия из ДНР и ЛНР, чтобы нивелировать влияние сопутствующих переезду стрессоров. Продолжительность периода включения составила 1 неделю, включавшую в себя необходимый объём функциональных и лабораторных методов исследования.
Основной исход исследования
Выявление фенотип-модулируемых вариантов функционального «поведения» различных звеньев гормонального профиля у беременных в зависимости от характера ЛФ в формировании низкого, среднего и высокого уровней стресса, обусловленных воздействием экстремальных стрессоров, связанных с опасностью для жизни и здоровья.
Дополнительные исходы исследования
Установление иерархии значимых признаков гормонального профиля, системы крови, уровней функционирования системы кровообращения и её адаптационного потенциала, ситуативной и личностной тревожности у беременных с различными типами латеральной конституции, обусловливающих формирование различных уровней стресса при воздействии экстремальных стимулов из-за длительного проживания в зоне ведения военных действий.
Анализ в группах
Анализ показателей гормонального профиля в основной группе (беременные-переселенцы из ДНР и ЛНР) и группе сравнения (беременные из Ростовской области) осуществляли в зависимости от градаций уровня стресса (низкий, средний, высокий) и ЛФ (правый, левый, амбидекстральный).
Методы регистрации исходов
Для определения исходного латерального поведенческого профиля асимметрий использовали тест М. Аннет: кодифицировали правый (ПЛФ), амбидекстральный (АЛФ) и левый (ЛЛФ) ЛФ [15]. Исследование уровня стресса проводили при помощи опросника «Шкала психологического стресса PSM-25» для измерения феноменологической структуры переживаний стресса (стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных показателях). Для оценки уровня функционирования системы кровообращения и её адаптационного потенциала по А.П. Берсеневой использовали индекс функциональных изменений (ИФИ) [16, 23]. Для определения реактивности сердечно-сосудистой системы использовали ортостатическую пробу. Состояние психоэмоционального статуса беременных изучали при помощи теста для определения ситуативной и личностной тревожности Спибергера–Ханина.
Концентрацию гормонов плацентарного лактогена, свободного эстриола, прогестерона, адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола определяли при помощи иммуноферментного анализа на фотометре TECAN SUNRISE (Австрия) в 8–9 ч утра. Использовали стандартные наборы фирм ELISA, DELFIAHfsh (WallacOy, Turku, Finland), ИБЛ «Интернейшнл ГмбХ», BUHLMANN (Германия), «DBC» (Канада). Содержание мелатонина определяли при экскреции с утренней порцией мочи 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМ) в утренние часы. Забор материала для исследования осуществляли до начала курса любых процедур и терапевтических мероприятий, рекомендованных женщинам в процессе амбулаторного акушерского скрининга.
Этическая экспертиза
Протокол исследования одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (№ 156 от 16.12.2017). Согласно юридическим аспектам проведения научных исследований (отраслевой стандарт ОСТ 42-511-99 «Правила проведения качественных клинических испытаний в РФ» от 29.12.1998), все женщины подписывали информированное согласие на участие в исследовании. Текст информированного согласия и протокол исследования соответствовали биоэтическим принципам, предъявляемым Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1964 г., дополнения от 1975, 1983, 1989, 2000 гг.).
Статистический анализ
Расчёт необходимого числа наблюдений (объём выборки) производили исходя из следующей формулы: N=10×m, где m — количество независимых переменных [24]. При обработке данных сравнивали относительные показатели (частоты, доли, проценты) между группами с помощью критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера. Также оценивали значения медианы и интерквартильного размаха [Q1; Q3], где Q1 и Q3 — 1-й и 3-й квартиль. Статистическую значимость результатов рассчитывали при доверительном интервале 95%. Для определения межгрупповых различий использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни (при уровне значимости p ≤0,05), для выявленных статистически значимых различий — тест Краскела–Уоллиса для непараметрического дисперсионного анализа с последующими апостериорными сравнениями тестом Манна–Уитни (с поправкой критического уровня значимости по Бонферрони).
Иерархию значимости изучаемых признаков определяли при помощи многофакторного анализа «Деревья решений». Для построения «Дерева решений» в качестве независимых переменных были взяты возраст беременных, показатели гинекологического анамнеза (возраст наступления менархе, продолжительность менструации, продолжительность менструального цикла), показатель функционирования системы кровообращения и её адаптационного потенциала (индекс функциональных изменений, ИФИ), показатели ортостатической пробы, личностной и ситуативной тревожности по Спибергеру–Ханину, ИМТ, показатели гормонального профиля (АКТГ, кортизол, прогестерон, эстриол свободный, пролактин, мелатонин), показатели крови (число эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, базофилов, скорость оседания эритроцитов), показатели свёртывающей системы крови: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген, растворимые фибрин-мономерные комплексы, международное нормализованное отношение, протромбиновый индекс, показатели ситуативной и личностной тревожности, а также показатели ортостатической пробы. В качестве зависимой переменной в «Деревьях решений» использовали уровень стресса, для каждого латерального профиля асимметрий (правого, амбидекстрального и левого) было построено своё «Дерево решений». Для уменьшения числа незначимых переменных в «Деревьях решений» использовали кросс-анализ.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10.01 (StatSoft Inc., США), Excel 2010 (Microsoft, США), IBM SPSS 24.0 (IBM SPSS Statistics, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты исследования
Для определения лабораторных и функциональных показателей из числа пациенток амбулаторно-поликлинического отделения Ростовского НИИ акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, наблюдавшихся по программе акушерского скрининга, были отобраны 192 беременные женщины-переселенцы из ДНР и ЛНР, составившие 1-ю (основную) группу. Во 2-ю (контрольную) группу вошли 153 беременные, проживавшие в Ростовской области. Гестационные сроки обследуемых беременных в обеих группах составили 24–36 недель. Выбор данного диапазона сроков обследования обусловлен полным завершением эмбриоматеринских взаимоотношений, окончанием этапа цитотрофобластической инвазии и началом плодоматеринских взаимоотношений — ключевого момента в формировании функциональной системы «мать–плацента–плод», обеспечивающей прогрессирование беременности. В этот период отмечается наиболее полноценная гормональная функция плаценты [25].
Основные результаты исследования
По результатам тестирования по М. Аннет в 1-й группе доминировали беременные с АЛФ (162 женщины), тогда как полярные (правый и левый фенотипы) были представлены значимо меньшим числом беременных (13 и 17 женщин соответственно). Напротив, в группе сравнения (2-я группа) у беременных преобладал ПЛФ (90 обследованных) по сравнению с АЛФ (48 обследованных) и ЛЛФ (15 обследованных). Затем определяли частоту обнаружения различных уровней стресса у беременных из Ростовской области, ДНР и ЛНР в зависимости от характера ЛФ (рис. 1). Было обнаружено, что средний уровень стресса, независимо от региона проживания, доминировал у беременных с ЛЛФ: 12/13 (92%) в 1-й группе по сравнению с 14/15 (93%) во 2-й группе; р=0,921. У беременных с АЛФ преобладал высокий уровень стресса в обоих регионах проживания, но в 1-й группе этот показатель был статистически значимо (в 1,8 раза) выше [154/162 (95%) по сравнению с 24/48 (50%) во 2-й группе (р=0,0001)]. У беременных с ПЛФ низкий уровень стресса регистрировался значимо чаще во 2-й группе — 69/90 (77%) по сравнению с 6/17 (35%) в 1-й группе (р=0,0005). В то же время в 1-й группе преобладал средний уровень стресса — 11/17 (64,7%) по сравнению с 20/90 (22,2%) во 2-й группе (р=0,041).
Рис. 1. Особенности различных уровней стресса у беременных из Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.
Fig. 1. Features of varying stress levels in pregnant women from the Rostov Region and the Donetsk and Luhansk People’s Republics.
На следующем этапе исследования изучали особенности показателей гормонального профиля беременных в динамике гестации в различных латеральных подгруппах в зависимости от уровня стресса и региона проживания.
Низкий уровень стресса
В процессе межгруппового сравнения в одноимённых латеральных подгруппах установлено, что, независимо от характера ЛФ, содержание АКТГ было значимо выше у беременных 1-й группы по сравнению со 2-й (р=0,001, р=0,03, р=0,012 соответственно; табл. 1). При внутригрупповом сравнении содержание АКТГ у беременных в 1-й группе статистически значимо более высокое у беременных с АЛФ по сравнению с ЛЛФ (р=0,036). У беременных из 2-й группы регистрировали значимо более низкую концентрацию АКТГ в случае ЛЛФ по сравнению с АЛФ (р=0,023).
Таблица 1. Особенности показателей гормонального статуса у беременных с низким уровнем стресса из Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республик в зависимости от характера латерального фенотипа
Table 1. Hormonal status parameters in pregnant women with low stress levels from the Rostov Region and the Donetsk and Luhansk People’s Republics, depending on the type of lateral phenotype
Показатель | Донецкая и Луганская Народные Республики | Ростовская область | ||||
Медиана [Q1; Q3] Левый | Медиана [Q1; Q3] Амби | Медиана [Q1; Q3] Правый | Медиана [Q1; Q3] Левый | Медиана [Q1; Q3] Амби | Медиана [Q1; Q3] Правый | |
AКТГ, пг/мл | 27,48* | 32,32*‣ | 31,48* | 23 [23; 23] | 28,78‣ | 25,32 |
Кортизол, нмоль/л | 616,32* | 649,87* | 503,31 | 468,76 | 581,09 | 526,76 |
Прогестерон, нмоль/л | 406,98 | 486,23* | 566,94• | 365,45 | 436,31 | 574,88• |
Эстриол, нмоль/л | 36,32 | 37,41 | 35,33 | 35,21 | 34,85 | 36,78 |
Человеческий плацентарный лактоген, мкг/мл | 6,32 | 5,26 | 6,14 | 6,02 | 5,9 | 6,09 |
6-Сульфатоксимелатонин, мкг/сут | 98,16 | 91,58 | 102,08▲ | 123,1* | 119,98* | 137,49*☆ |
Примечание. * Статистическая значимость отличий показателей гормонального статуса в одноимённых латеральных подгруппах в процессе межгруппового сравнения (при р <0,05); ☆ статистически значимые отличия между правым и амбидекстральным латеральными фенотипами в пределах одного региона проживания, • между правым и левым латеральными фенотипами, ‣ между амбидекстральным и левым латеральными фенотипами; полужирным выделены значения показателей, для которых обнаружены статистически значимые различия; AКТГ — адренокортикотропный гормон; Левый — левый латеральный фенотип, Амби — амбидекстральный латеральный фенотип, Правый — правый латеральный фенотип.
При межгрупповом сравнении содержание кортизола было значимо выше у беременных 1-й группы, чем у беременных 2-й группы, во всех латеральных подгруппах (р=0,038, р=0,047 и р=0,045 соответственно). При внутригрупповом сравнении концентрация кортизола была значимо более высокая у беременных с АЛФ по сравнению с ЛЛФ как в 1-й (р=0,047), так и во 2-й группах (р=0,016).
Содержание прогестерона при межгрупповом сравнении только у беременных с ЛЛФ и было значимо выше у беременных 1-й группы (р=0,042). При внутригрупповом сравнении статистически значимо более низкие показатели концентрации прогестерона регистрировали во 2-й группе у беременных с ЛЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,039) и АЛФ (р=0,023).
Содержание свободного эстриола и плацентарного лактогена в зависимости от характера ЛФ не имели статистически значимых различий при межгрупповом и внутригрупповом сравнении у беременных из обоих регионов (р >0,05).
В процессе межгруппового сравнения концентрации 6-СОМ её показатели были значимо ниже у беременных 1-й группы по сравнению со 2-й во всех латеральных подгруппах (р=0,01, р=0,022, р=0,001 соответственно). В процессе внутригруппового сравнения установлено, что у беременных в 1-й группе низкое содержание 6-СОМ выявлено в случае АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,036). Во 2-й группе наиболее низкое содержание 6-СОМ выявлено у беременных с АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,025).
Средний уровень стресса
В процессе межгруппового сравнения при среднем уровне стресса концентрация АКТГ была значимо выше у беременных 1-й группы по сравнению со 2-й группой, но только у представительниц АЛФ (р=0,029; табл. 2). При внутригрупповом сравнении у беременных в 1-й группе концентрация АКТГ была значимо выше при АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,038) и ЛЛФ (р=0,043). Во 2-й группе выявлены статистически значимо более низкое содержание АКТГ при ЛЛФ по сравнению с АЛФ (р=0,027).
Таблица 2. Особенности показателей гормонального статуса у беременных со средним уровнем стресса из Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республик в зависимости от характера латерального фенотипа
Table 2. Hormonal status parameters in pregnant women with moderate stress levels from the Rostov Region and the Donetsk and Luhansk People’s Republics, depending on the type of lateral phenotype
Показатель | Донецкая и Луганская Народные Республики | Ростовская область | ||||
Медиана [Q1; Q3] Левый | Медиана [Q1; Q3] Амби | Медиана [Q1; Q3] Правый | Медиана [Q1; Q3] Левый | Медиана [Q1; Q3] Амби | Медиана [Q1; Q3] Правый | |
AКТГ, пг/мл | 30,86‣ | 36,175* | 30,65☆ | |||
Кортизол, нмоль/л | 541,53 | 669,68*‣☆ | 512,03*☆ | 536,85 | 571,89 | |
Прогестерон, нмоль/л | 411,65‣ | 367,03* | 527,89☆ | 481,19 | 458,98 | 587,10 |
Эстриол, нмоль/л | 45,695* | 39,07☆ | 34,65 | 31,50 | 37,48 | |
Человеческий плацентарный лактоген, мкг/мл | 5,59 | 5,45 | 6,36☆• | 5,72 | 6,11 | 6,10 |
6-Сульфатоксимелатонин, мкг/сут | 109,22*‣ | 89,48* | 104,24*☆ | 132,22‣ | 122,29 | 137,55☆ |
Примечание. * Статистическая значимость отличий показателей гормонального статуса в одноимённых латеральных подгруппах в процессе межгруппового сравнения (при р <0,05); ☆ статистически значимые отличия между правым и амбидекстральным латеральными фенотипами в пределах одного региона проживания, • между правым и левым латеральными фенотипами, ‣ между амбидекстральным и левым латеральными фенотипами; полужирным выделены значения показателей, для которых обнаружены статистически значимые различия; AКТГ — адренокортикотропный гормон; Левый — левый латеральный фенотип, Амби — амбидекстральный латеральный фенотип, Правый — правый латеральный фенотип.
При межгрупповом сравнении содержание кортизола у беременных 1-й группы в одноимённых латеральных подгруппах было значимо выше у женщин с АЛФ по сравнению со 2-й группой (р=0,01). При внутригрупповом сравнении у беременных 1-й группы значимо более высокая концентрация кортизола была при АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,012).
Концентрация прогестерона при межгрупповом сравнении при среднем уровне стресса была значимо выше в 1-й группе по сравнению со 2-й, но только в случае АЛФ (р=0,029). При внутригрупповом сравнении в 1-й группе она была статистически значимо более низкой при АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,045) и ЛЛФ (р=0,033).
Содержание свободного эстриола при межгрупповом сравнении было значимо более высоким у беременных в 1-й группе с АЛФ по сравнению со 2-й группой (р=0,046). При внутригрупповом сравнении концентрация свободного эстриола была значимо выше у беременных с АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,01) и ЛЛФ (р=0,001) в 1-й группе.
Содержание плацентарного лактогена при межгрупповом сравнении в одноимённых латеральных подгруппах статистически значимо не отличалось как у беременных в основной группе, так и в группе сравнения (р >0,05). При внутригрупповом сравнении его концентрация была значимо выше при ПЛФ по сравнению с АЛФ (р=0,036) и ЛЛФ (р=0,018) в 1-й группе.
При межгрупповом сравнении содержания 6-СОМ его показатели были значимо ниже в 1-й группе по сравнению со 2-й группой во всех одноимённых латеральных подгруппах: ПЛФ, АЛФ и ЛЛФ (р=0,001, р=0,001, р=0,01 соответственно). При внутригрупповом сравнении наиболее низкое содержание 6-СОМ отмечали у беременных с АЛФ в сравнении с ПЛФ (р=0,043) и ЛЛФ (р=0,018) в 1-й группе. У беременных 2-й группы с АЛФ выявлены также значимо более низкое содержание 6-СОМ в сравнении с ПЛФ (р=0,016) и ЛЛФ (р=0,024).
Высокий уровень стресса
У беременных с высоким уровнем стресса при межгрупповом сравнении содержание АКТГ было значимо ниже в 1-й группе по сравнению со 2-й группой во всех одноимённых латеральных подгруппах с ПЛФ, АЛФ и ЛЛФ (р=0,001, р=0,032, р=0,018 соответственно; табл. 3). При внутригрупповом сравнении содержание АКТГ у беременных 1-й группы было значимо ниже в случае ПЛФ по сравнению с АЛФ (р=0,048). Во 2-й группе, также как и в 1-й, у беременных с ПЛФ регистрировали более низкие концентрации АКТГ по сравнению с АЛФ (р=0,036) и ЛЛФ (р=0,029).
Таблица 3. Особенности показателей гормонального статуса у беременных с высоким уровнем стресса из Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республик в зависимости от характера латерального фенотипа
Table 3. Hormonal status parameters in pregnant women with high stress levels from the Rostov Region and the Donetsk and Luhansk People’s Republics, depending on the type of lateral phenotype
Показатель | Донецкая и Луганская Народные Республики | Ростовская область | ||||
Медиана [Q1; Q3] Левый | Медиана [Q1; Q3] Амби | Медиана [Q1; Q3] Правый | Медиана [Q1; Q3] Левый | Медиана [Q1; Q3] Амби | Медиана [Q1; Q3] Правый | |
AКТГ, пг/мл | ||||||
Кортизол, нмоль/л | ||||||
Прогестерон, нмоль/л | ||||||
Эстриол, нмоль/л | ||||||
Человеческий плацентарный лактоген, мкг/мл | ||||||
6-Сульфатоксимелатонин, мкг/сут | ||||||
Примечание. * Статистическая значимость отличий показателей гормонального статуса в одноимённых латеральных подгруппах в процессе межгруппового сравнения (при р<0,05); ☆ статистически значимые отличия между правым и амбидекстральным латеральными фенотипами в пределах одного региона проживания, • между правым и левым латеральными фенотипами, ‣ между амбидекстральным и левым латеральными фенотипами; полужирным выделены значения показателей, для которых обнаружены статистически значимые различия; AКТГ — адренокортикотропный гормон; Левый — левый латеральный фенотип, Амби — амбидекстральный латеральный фенотип.
По данным межгруппового сравнения концентрация кортизола во всех латеральных подгруппах (ПЛФ, АЛФ и ЛЛФ) была статистически значимо выше у беременных в 1-й группе (р=0,04, р=0,032, р=0,04 соответственно). При внутригрупповом сравнении у беременных только 2-й группы были выявлены статистически значимо более высокое содержание кортизола при АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,01).
Содержание прогестерона при межгрупповом сравнении было значимо выше у беременных 2-й группы во всех латеральных подгруппах (ПЛФ, АЛФ и ЛЛФ) по сравнению с одноимёнными латеральными подгруппами в 1-й группе (р=0,025, р=0,001, р=0,013 соответственно). При внутригрупповом сравнении статистически значимо отличались показатели только у беременных во 2-й группе: при ПЛФ регистрировали более высокое содержание прогестерона по сравнению с АЛФ (р=0,024) и ЛЛФ (р=0,027).
При межгрупповом сравнении концентрация свободного эстриола была значимо выше у беременных в 1-й группе при АЛФ по сравнению со 2-й группой в аналогичной латеральной подгруппе (р=0,031). В процессе внутригруппового сравнения значимо более высокое содержание эстриола регистрировали у беременных с АЛФ по сравнению с ЛЛФ в 1-й группе (р=0,01).
При межгрупповом сравнении концентрация плацентарного лактогена была более высокой у женщин в 1-й группе с ЛЛФ по сравнению со 2-й группой в одноимённой латеральной подгруппе (р=0,007). При внутригрупповом сравнении данный показатель был значимо более высоким при ЛЛФ по сравнению с АЛФ (р=0,023) и ПЛФ (р=0,034) в 1-й группе, а у беременных из 2-й группы более высокое содержание плацентарного лактогена регистрировали при ПЛФ по сравнению с ЛЛФ (р=0,021).
В процессе межгруппового анализа содержания 6-СОМ выявлены статистически значимо более низкие его показатели у беременных в 1-й группе по сравнению со 2-й группой во всех латеральных подгруппах — ПЛФ, АЛФ и ЛЛФ (р=0,018, р=0,001, р=0,016 соответственно). При внутригрупповом сравнении у беременных с АЛФ выявлены наиболее низкое содержание 6-СОМ по сравнению с ПЛФ (р=0,019) и ЛЛФ (р=0,037) в 1-й группе. Во 2-й группе значимо более низкое содержание 6-СОМ также регистрировали в случае АЛФ по сравнению с ПЛФ (р=0,038).
В результате анализа концентраций гормонов стресс-реализующей, стероидной, плацентарной подгрупп и мелатонинового обмена установлены значимые отличия по некоторым гормонам в зависимости от характера латеральной конституции. На следующем этапе исследования для выяснения иерархической представленности показателей гормонального профиля в стресс-аранжирующих подсистемах при каждом из уровней стресса провели многофакторный анализ «Деревья решений». Перечень независимых и зависимых переменных, включённых в «Деревья решений», представлен в разделе «Статистический анализ». Поскольку для демонстрации отличий функционального поведения гормональных подсистем у женщин с различной латеральной конституцией в рамках проводимых исследований необходимы были только качественные результаты многофакторного анализа «Деревья решений», решающие (прогностические) правила в процесс описания результатов включены не были.
Правый латеральный фенотип
У беременных 1-й группы с ПЛФ в иерархии нормализованной важности присутствовала только одна переменная — содержание АКТГ (100%), тогда как у беременных 2-й группы с таким же ЛФ первая позиция принадлежала уровню адаптации по ИФИ (100%), вторая позиция — концентрации эстриола (35,4%), третья — ИМТ (22,5%), четвёртая — возрасту (8,6%).
Амбидекстральный латеральный фенотип
У беременных 1-й группы с АЛФ в иерархии нормализованной важности первая позиция принадлежала концентрации гликированного гемоглобина (100%), вторая — показателю ортостатической пробы (23,8%), третья — количеству эозинофилов (22,9%), четвёртая — значению активированного частичного тромбопластинового времени (18,6%), пятая — уровню ситуативной тревожности (17,7%). У беременных 2-й группы с АЛФ в иерархии признаков нормализованной важности первая позиция принадлежала содержанию 6-СОМ (100%); вторая — уровню адаптации по ИФИ (93,2%), третья — возрасту начала половой жизни (52,1%), четвёртая — ИМТ (52,1%), пятая — концентрации кортизола (51,5%), шестая — содержанию эстриола (40,7%), седьмая — количеству родов (34,9%).
Левый латеральный фенотип
У беременных 1-й группы с ЛЛФ в иерархии нормализованной важности первая позиция принадлежала ситуативной тревожности (100%), вторая — концентрации кортизола (62,1%), третья — содержанию эстриола (53,7%). У беременных 2-й группы с ЛЛФ в иерархии нормализованной важности первая позиция нормализованной важности принадлежала уровню адаптации по ИФИ (100%), вторая — содержанию эстриола (37,8%).
ОБСУЖДЕНИЕ
Резюме основного результата исследования
В результате проведённого исследования получены данные о значимых отличиях уровней гормонов стресс-реализующей, стероидной, плацентарных групп и мелатонинового обмена при формировании различных уровней стресса у беременных, подвергшихся воздействию экстремальных стимулов, связанных с опасностью для жизни и здоровья, в зависимости от характера латеральной конституции: у женщин с ПЛФ чаще регистрировался низкий уровень стресса, тогда как средний и высокий уровни были более характерны для беременных с АЛФ. Снижение стресс-устойчивости у женщин-амбидекстров сопровождалось более низкой продукцией 6-СОМ и более высокой продукцией гормонов стресс-реализующей группы по сравнению с полярными (правым и левым фенотипами), что позволяет беременных с АЛФ отнести к группе с более низкими показателями стресс-устойчивости.
Обсуждение основного результата исследования
Работы И.А. Аршавского [26, 27] впервые внесли большой вклад в исследования процессов устойчивости и адаптивности в аспекте её связи с доминантой беременности [27], которые получили дальнейшее развитие в последнее время [19, 28]. Было доказано, что пространственная разнонаправленность морфофункциональных асимметрий значимо связана с различными соматовисцеральными и нервно-психическими отклонениями, а также с целым рядом акушерских осложнений [18]. Позже это получило развитие в работах по репродуктивной физиологии, в которых было показано, что в формировании процессов гестационной адаптивности и устойчивости различных звеньев функциональной системы «мать–плацента–плод» значительная роль принадлежит морфофункциональным асимметриям женского организма и анатомически парноорганизованной репродуктивной системы. Это подтверждается и исследованиями, проводимыми в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии с 1984 г. по настоящее время [13, 15]. В результате разработана концепция о существовании правоориентированного, левоориентированного и комбинированного типов функциональной системы «мать–плацента–плод» с присущими для каждого типа диапазонами адаптивно-приспособительных механизмов. В контексте данной концепции проводилось наше исследование.
Как уже упоминалось выше, каждая живая система обладает индивидуальным уровнем реактивности, резистентности и адаптивности, определяемым типом гено- и фенотипических признаков, слагающихся в той или иной тип конституции, к которым относится и латеральная конституция [29]. В связи с индивидуально-типологическими особенностями живых систем существенно отличаются формы их реактивности и адаптационной устойчивости в условиях воздействия одного и того же эндо- и экзогенного стимула [28, 30]. Это было продемонстрировано при определении частоты обнаружения различных уровней стресса в различных латеральных подгруппах у беременных Ростовской области, ДНР и ЛНР: низкий уровень стресса преобладал у беременных с ПЛФ, высокий уровень — с АЛФ.
В полученных результатах для женщин с преобладанием вектора левых сил в ЛФ (АЛФ и ЛЛФ) были характерны более высокие концентрации АКТГ в обоих регионах проживания с преобладанием данного показателя у жительниц ДНР и ЛНР, что свидетельствовало о более выраженной активации стресс-реализующего звена гормонального статуса. Прогестерон является наиболее важным гормоном, а также нейрогормоном, от которого зависят процессы вынашивания плода, пролиферативные процессы (рост сосудов маточно-плацентарного комплекса и т. д.). При общем снижении содержания этого гормона на фоне среднего и высокого уровней стресса у жительниц ДНР и ЛНР более высокие его концентрации выявлены у женщин с ПЛФ. Наиболее низкие значения содержания прогестерона у жительниц обоих регионов были выявлены при АЛФ, что свидетельствовало о потенциально более высокой вероятности формирования акушерской патологии, тогда как концентрация свободного эстриола у жительниц ДНР и ЛНР была более высокой в этой же латеральной подгруппе.
Данные литературы свидетельствуют о том, что мелатонин во время беременности выполняет модулирующую функцию по отношению к гестационным процессам, в частности, применительно к сократительной активности матки [31]. Известно, что во II и до середины III триместров гестации мелатонин проявляет сдерживающее влияние по отношению к маточной активности, тогда как в конце III триместра (накануне родов) и в родах ему приписывается активирующее влияние и непосредственное участие в процессах запуска родовой деятельности. Более низкое содержание 6-СОМ при высоком уровне стресса у жительниц ДНР и ЛНР по сравнению с аналогичным уровнем стресса у жительниц Ростовской области может свидетельствовать либо о снижении его продукции, обусловленной в том числе депривацией сна в процессе пребывания в зоне военных действий, либо о вероятном израсходовании этого антистрессового биологически активного вещества. Одновременно допустимы обе группы предполагаемых причинно-обусловливающих обстоятельств. Для беременных с АЛФ наиболее низкое содержание 6-СОМ по сравнению с правым и левым фенотипами можно объяснить преобладанием процессов функциональной симметрии по большому мозгу, обусловливающих специфику триптофан-серотонинового обмена. Кроме того, мелатонин как антистрессовый фактор изменялся зеркально стрессовым факторам, ограничивая чрезмерную мобилизацию [32]. Обращало на себя внимание, что у представителей АЛФ содержание мелатонина, вероятно, изначально было низким.
Если соотнести различные уровни стресса, сфокусированные в цели настоящего исследования, с закономерностями формирования стресс-устойчивости, то можно сделать следующее промежуточное обобщение полученных на данном этапе результатов: при высокой и средней стресс-устойчивости адренокортикотропная сторона деятельности аденогипофиза активнее откликается на наличный стрессор, особенно у амбидекстров. Затем аналогично подключается кортизоловое звено, неся с собой, помимо основного мобилизующего катаболического воздействия, ещё и упреждающий противовоспалительный и антигистаминный эффект. Подчеркнём, что сдвиг в сторону катаболизма касается прежде всего белкового и аминокислотного пулов, наряду с липидно-углеводным запасом.
Прогестерон при наличном стрессе был выше, чем в контроле, что заставляет предположить отчасти нейростероидное происхождение регистрируемой фракции Р4 и, соответственно, его влияние на нейрональную активность через взаимодействие с ионными каналами нейролемм, участие в регуляции экспрессии генов, связывании с внутриклеточными стероидными рецепторами. Всё перечисленное может лежать в основе определённых звеньев физиологического механизма раннего формирования довольно высокой либо средней стресс-устойчивости.
В отличие от этого при предположительной низкой стресс-устойчивости (более выраженной стресс-уязвимости) выявлялся иной сценарий функционирования всей специализированной стрессовой гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Одно из её центральных звеньев (аденогипофизарный этаж) на момент обнаружения содержания АКТГ откликалось на воздействие стрессора (ДНР и ЛНР) не столь активно, как при высокой стресс-устойчивости. Это касалось полярных (правого и левого) фенотипов. Однако периферическое звено, продуцирующее стероидные циклопентан-пергидрофенантрен-содержащие стрессовые факторы, защитно-компенсаторно активировалось. Вероятно, в данном случае повышенная концентрация периферических стероидов (по принципу отрицательной обратной связи) вызывала торможение секреции кортикотропина гипофизом, что, по-видимому, временно ослабляло гипоталамическую секрецию кортиколиберина. Об этом косвенно можно судить в масштабах целостного организма на системном и межсистемном уровнях, в том числе осуществив оценку системы крови, психоэмоционального и вегетативного статуса испытуемых.
Более высокие показатели стресс-устойчивости у беременных с полярными (правым и левым) латеральными профилями асимметрий обусловлены более выраженной функциональной межполушарной асимметрией, тогда как для женщин-амбидекстров характерна её сглаженность со снижением коэффициента межполушарной асимметрии [8, 15].
Высказанное предположение подтверждается экспериментальными исследованиями [10], установившими, что начальный период экстремальных состояний для унилатеральных беременных крыс характеризуется симметризацией мозга, выражавшейся в сглаживании межполушарных отличий усреднённых вызванных потенциалов и снижением их амплитуды в обоих полушариях, а также возрастании когерентных волн электроэнцефалограммы с частотой 1–4 Гц одновременно с резким снижением когерентности по остальным частотам между всеми отведениями таламокортикального треугольника. У амбилатеральных крыс электрофизиологическая симметрия прослеживается на всём протяжении экстремального состояния. Однако в его инициальном периоде, наряду с сохранением высоких значений, когерентность выявляется практически во всём спектре электроэнцефалограммы между корой и таламусом.
АЛФ обусловливал усиление процессов межсистемной интеграции, что подтверждалось при проведении анализа «Деревья решений», где у женщин с амбидекстральным фенотипом в обоих регионах проживания в иерархии значимости, помимо гормонов, присутствовало большое количество подкрепляющих факторов, указывающих на меньшую устойчивость при данном типе латеральной конституции. Данные литературы свидетельствуют также о значительном риске развития преждевременных родов, эклампсии и гестационного сахарного диабета в условиях хронического стресса [4], особенно у женщин с ЛЛФ и АЛФ [9, 12] Таким образом, амбидекстральный профиль асимметрий является конституционально обусловленным фактором риска развития высокого уровня стресса у беременных. Это требует соответствующего медицинского наблюдения, внесения изменений в график скрининговых обследований, использования современных клинических, лабораторных и аппаратных способов гестационного сопровождения и оказания своевременной помощи беременным в случае манифестации акушерских осложнений с привлечением врачей узких специальностей. Указанные меры направлены на снижение показателей материнской и младенческой заболеваемости и смертности.
Ограничения исследования
В работе имелась систематическая ошибка самоотбора, поскольку не все женщины из ДНР и ЛНР, обратившиеся в медицинское учреждение, согласились на участие в исследовании, что, в свою очередь, также привело к уменьшению объёма выборки и могло повлиять на характер распределения данных в процессе обработки. Имелась также систематическая ошибка измерения при тестировании по М. Аннет, обусловливающая завышение численности испытуемых с амбидекстральным фенотипом в выборке, что может возникать у респондентов, находящихся в состоянии острого стресса [20, 21].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что ЛФ является фактором, способствующим формированию статистически значимых отличий в показателях гормонального статуса беременных при различных уровнях стресса. При амбидекстральном типе латеральной конституции при более выраженной продукции гормонов стресс-реализующей группы и снижении продукции мелатонина значимо чаще (в 1,8 раза) развивается высокий уровень стресса, независимо от региона проживания женщин, что свидетельствует о наибольшей стресс-уязвимости данного типа латеральной конституции. Более выраженная продукция гормонов стресс-реализующей группы (АКТГ и кортизол) у жительниц ДНР и ЛНР повышает риск развития акушерских осложнений. Необходимы дальнейшие исследования конституционального типирования, что поможет в разработке индивидуализированных стратегий гестационного сопровождения беременных и позволит определить перспективу выбора стратегий для повышения их стресс-устойчивости.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Т.Л. Боташева — обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста рукописи; А.К. Григорян — сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста рукописи; О.И. Дериглазова — курация пациентов, обзор литературы, сбор и анализ литературных источников; Р.А. Кудрин — обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, написание и редактирование текста рукописи; Е.П. Горбанёва — сбор и анализ литературных источников, написание текста рукописи; О.П. Заводнов — сбор и анализ литературных источников, написание текста рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол № 156 от 16.12.2017).
Согласие на публикацию. Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: T.L. Botasheva: data curation, writing—original draft; A.K. Grigorian: data curation, writing—original draft; O.I. Deriglazova: investigation, data curation, writing—original draft; R.A. Kudrin: data curation, writing—original draft, writing—review & editing; E.P. Gorbaneva: data curation, writing—original draft; O.P. Zavodnov: data curation, writing—original draft. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: The study was approved by the Local Ethics Committee of Rostov State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation (Protocol No. 156 dated December 16, 2017).
Consent for publication: All participants provided written informed consent prior to inclusion in the study.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
About the authors
Tatiana L. Botasheva
Rostov State Medical University
Email: t_botasheva@mail.ru
ORCID iD: 0009-0004-2121-7695
SPIN-code: 3341-2928
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Rostov-on-DonAnait K. Grigorian
Volgograd State Medical University
Email: ano.05@mail.ru
ORCID iD: 0009-0005-7947-7972
SPIN-code: 6407-8315
MD
Russian Federation, VolgogradOlga I. Deriglazova
Central District Hospital in Oblivsky district
Email: deriglazova19881@icloud.com
ORCID iD: 0000-0001-6008-9359
MD
Russian Federation, Rostov RegionRodion A. Kudrin
Volgograd State Medical University
Author for correspondence.
Email: rodion.kudrin76@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0022-6742
SPIN-code: 5485-9609
Scopus Author ID: 56815845300
ResearcherId: F-7239-2018
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor
Russian Federation, VolgogradElena P. Gorbaneva
Volgograd State Medical University
Email: gorbaneva@bk.ru
ORCID iD: 0000-0003-1598-6194
SPIN-code: 5925-9239
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor
Russian Federation, VolgogradOleg P. Zavodnov
Rostov State Medical University
Email: ozz2007@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-2579-6992
SPIN-code: 7234-3875
Cand. Sci. (Biology)
Russian Federation, Rostov-on-DonReferences
- Radzinsky VE, Botasheva TL, Kotaysh GA, editors. Obesity. Diabetes. Pregnancy. Versions and contraversions. Clinical practices. Prospects. Moscow: GEOTAR-Media; 2020. 528 р. (In Russ.) ISBN: 978-5-9704-5442-8
- Luneva IS, Ivanova OYu, Khardikov AV, Abrosimova NV. Factors influencing the birth rates in modern Russia. Russian Bulletin of the Obstetrician-Gynecologist. 2019;19(2):14–20. doi: 10.17116/rosakush20191902114 EDN: YBUIHT
- Dobrieva AI, Ananchenkova PI. The right to health and barriers to health services for refugees and internally displaced persons: review of foreign literature. City-Healthcare. 2023;4(3):105–111. doi: 10.47619/2713- 2617.zm.2023.v.4i3;105-111 EDN: WKJCOF
- Kazennaya EV. Contemporary research on and scientifically based psychotherapeutic methods of treating ptsd in adults. Journal of Modern Foreign Psychology. 2020;9(4):110–119. doi: 10.17759/jmfp.2020090410 EDN: ASCWDZ
- Botasheva TL, Palieva NV, Khloponina AV, Vasiljeva VV. Fetal sex in the development of gestational diabetes mellitus and endothelial dysfunction. Akusherstvo i Ginekologiya. 2020(9):56–64. doi: 10.18565/aig.2020.9.56-64 EDN: WQMMMY
- Kaiser K, Nielsen MF, Kallfa E, et al. Metabolic syndrome in women with previous gestational diabetes. Sci Rep. 2021;11(1):11558. doi: 10.1038/s41598-021-90832-0
- Bastrikov Yu, Grigoricheva EA, Isaeva ER, Tseilikman VE. Biochemical and psychosomatic markers of stress. Chelyabinsk: PIER LLC; 2022. 208 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-98578-224-0 EDN: GSNVBK
- Gutsol LO, Guzovskaiia EV, Serebrennikova SN, Seminskу IZ. Stress (general adaptation syndrome): lecture. Baikal Medical Journal. 2022;1(1):70–80. doi: 10.57256/2949-0715-2022-1-1-70-80 EDN: QNIEKW
- Kondashevskaya MV, Artemyeva KA, Aleksankina VV. Central neurophysiological mechanisms of stress resistance in post-traumatic stress disorder. I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity. 2024;74(5):565–590. doi: 10.31857/S0044467724050032 EDN: BGUYAB
- Lysak VI, Nefedieva EE, Sevryukova GA, Zheltobryukhov VF. Stress. Ecology. Health. Volgograd: Volgogradskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet; 2019. 92 р. (In Russ.) ISBN: 978-5-9948-3376-6 EDN: TSLAVV
- Aghajanyan NA, Ryzhakov DI, Potemina TE, Radysh IV. Stress. Adaptation. The reproductive system. Nizhny Novgorod: Nizhegorodskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya; 2009. 296 р. (In Russ.) ISBN: 978-5-7032-0736-9 EDN: QKSIMF
- Chernositov AV, Botasheva TL, Vasilieva VV. Functional interhemispheric brain asymmetry in the organization of the dominant functional systems of the female reproduction and central mechanisms of resistance. Journal of Fundamental Medicine and Biology. 2016;(3):31–41. EDN: XQSIEF
- Botasheva TL, Palieva NV, Radzinsky VE, et al. Effect of metabolic homeostasis on the vegetative status of women depending on stereoisomerism of the functional system “mother-placenta-fetus”. Modern Problems of Science and Education. 2016;(5):28. EDN: WWVFLD
- Ignatova JP, Makarova II, Zenina OJ, Aksenova AV. Current aspects of functional hemispheric asymmetry studying (literature review). Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2016;23(9):30–39. doi: 10.33396/1728-0869-2016-9-30-39 EDN: UDZZKI
- Boravova AI. Problems of brain functional asymmetry in the works of Russian. Asymmetry. 2023;17(2):5–15. doi: 10.25692/ASY.2023.17.2.001 EDN: SDRGTM
- Leutin VP, Nikolaeva EI, Fomina EV. Brain asymmetry and human adaptation. Asymmetry. 2007;1(1):71–73. (In Russ.) EDN: NULQTZ
- Kaznacheev VP. Modern aspects of adaptation. Novosibirsk: Nauka; 1980. 192 р. (In Russ.) EDN: RZYABH
- Vasileva VV, Botasheva TL, Khloponina AV, et al. Peculiarities of spatial-time organization of bioelectric activity of pregnant women brain with endocrine pathology. Medical News of North Caucasus. 2019; 14(1-1):68–71. doi: 10.14300/mnnc.2019.14052 EDN: GKYQZU
- Botasheva TL, Rogova NA, Chernositov AV, et al. Season biorhythms of functional system mother-placenta-fetus in dependence on its stereofunctional organization in physiological and complicated pregnancy. Tavricheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik. 2013; 16(2-1):32–35. EDN: TFCJMR
- Chernositov AV. Functional asymmetry of the brain: medical, biological, psychological and socio-pedagogical aspects. Rostov-on-Don: IPO PI SFU; 2011.184 р. (In Russ.) EDN: QMBUNH
- Zhavoronkova LA. Right-handed-left-handed people: interhemispheric asymmetry of human brain biopotentials. Krasnodar: Ekoinvest; 2009. 239 р. (In Russ.) EDN: QKSGTF
- Bragina NN, Dobrokhotova TA. Human functional asymmetries. Moscow: Medicine; 1988. (In Russ.) ISBN: 5-225-00102-5
- Baevsky RM, Berseneva AP. Assessment of the adaptive capabilities of the body and the risk of developing diseases. Moscow: Medicine; 1997. 234 р. (In Russ.) URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000571439
- Boyarsky AYa, Gromyko GL, editors. General theory of statistics. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta; 1985. 327 р. (In Russ.) URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007692252
- Milovanov AP. Cytotrophoblastic invasion is the most important mechanism of placentation and pregnancy progression. Russian Journal of Archive of Patology. 2019;81(4):5–10. doi: 10.17116/patol2019810415 EDN: PIVRHG
- Arshavsky IA. The role of the gestational dominant as a factor determining the normal or abnormal development of the fetus. In: Actual issues of obstetrics and gynecology. Moscow: Medicine; 1957. Р. 320–333. (In Russ.)
- Arshavsky IA. Essays on age physiology. Moscow: Medicine; 1967. 476 р. (In Russ.) URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01005950498
- Botasheva TL, Chernositov AV, Gurbanova LR, et al. Peculiarities of women functional status in physiological rest and in standard physical load in reproductive health, in pre- and postmenopausal periods in dependence on the behavioral lateral asymmetry profile. Modern Problems of Science and Education. 2015;(3):145. EDN: TYSIOV
- Ivanov LN, Kolotilova ML. Individual reactivity and individual card resistance of the organism. Medicus. 2020;(1):20–26. EDN: ZFBWHG
- Chuprikov AP. Lateral therapy. Kiev: Zdorovye; 1994. (In Russ.) ISBN: 5-311-00998-5
- Anisimov VN, Vinogradova IA. Aging of the female reproductive system and melatonin. St. Petersburg: Sistema; 2008. 44 р. (In Russ.) URL: https://peptidspb.ru/anisimov_vinogradova_mlt-reprod-2008.pdf
- Arushanyan EB. Universal therapeutic possibilities of melatonin. Clinical Medicine. 2013;91(2):4–8. EDN PVLBXD
Supplementary files