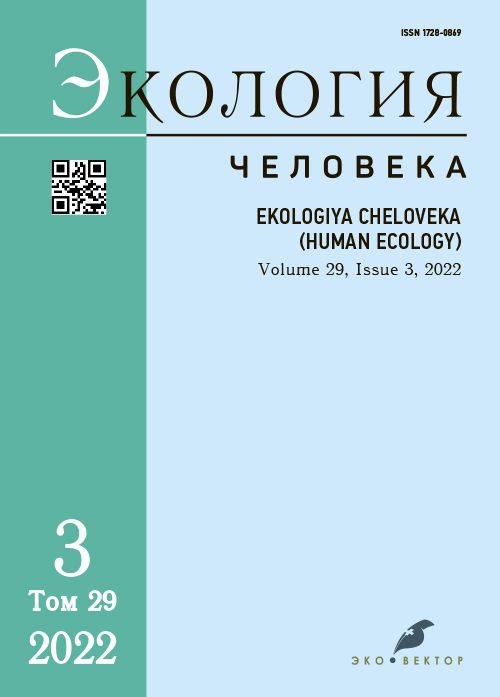Возрастные изменения концентрации глюкозы, её метаболитов и активности аминотрансфераз у женщин и мужчин зрелого и пожилого возраста
- Авторы: Бичкаева Ф.А.1, Власова О.С.1, Шенгоф Б.А.1, Бичкаев А.А.1, Нестерова Е.В.1, Волкова Н.И.1
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
- Выпуск: Том 29, № 3 (2022)
- Страницы: 187-197
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 16.02.2022
- Статья одобрена: 10.06.2022
- Статья опубликована: 01.07.2022
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/100841
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco100841
- ID: 100841
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Адаптация человека к условиям проживания в условиях Севера определяется его энергетическим статусом, в частности гомеостазом глюкозы, и активностью ряда ферментов — аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ).
Цель. Провести сравнительный анализ содержания глюкозы, лактата, пирувата, а также активности АСТ, АЛТ и величин их соотношения в разных возрастных группах мужчин и женщин — жителей приарктического региона, родившихся и постоянно проживающих в Архангельской области.
Материал и методы. В обсервационном поперечном неконтролируемом исследовании изучены различия в содержании параметров углеводного обмена и активности трансфераз между группами женщин и мужчин разных возрастов. Обследовано 437 женщин и 194 мужчины в возрасте от 21 до 74 лет. В сыворотке крови ферментативным методом определены содержание глюкозы, по реакции Триндера — концентрация лактата, методом Умбрайта — концентрация пирувата, унифицированным кинетическим методом — активность АСТ, АЛТ, рассчитан коэффициент де Ритиса (соотношение активности АСТ/АЛТ). Участников исследования разделили на группы по полу и возрасту: женщины 21–35, 36–45, 46–55, 56–74 лет; мужчины 22–35, 36–45, 46–60, 61–74 лет.
Результаты. Непараметрическое сравнение показало возрастное повышение содержания глюкозы в крови у женщин 46–55 лет при увеличении активности АСТ, АЛТ, у мужчин 61–74 лет при снижении активности АЛТ, что говорит о разных механизмах её повышения. Увеличение числа лиц с повышенной концентрацией глюкозы в крови натощак (преддиабетический уровень — 5,6–6,1 ммоль/л и выше нормы) в старших возрастных группах может служить подтверждением развития гипергликемии и быть причиной и/или следствием формирования инсулинорезистентности. Индивидуальный анализ величин коэффициента де Ритиса выявил во всех гендерных возрастных группах лиц с разными метаболическими потоками в гомеостазе глюкозы. С возрастом у 57,5; 66,7; 59,5 и 52,4% женщин, у 72,6; 63,2; 74,1 и 28,6% мужчин преобладали анаболические процессы, что при повышении концентрации глюкозы увеличивает риск развития инсулинорезистентности.
Заключение. Полученные данные об особенностях состояния углеводного обмена и аминотрансфераз у мужчин и женщин с учетом возраста могут использоваться для диагностических и превентивных мероприятий по сохранению здоровья жителей приарктического региона.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Адаптация человека к условиям проживания определяется энергетическим статусом [1] и активностью ферментов, обеспечивающих его [1, 2]. Глюкоза относится к основным источникам энергии, а среди механизмов поддержания гликемии выделяют гликогенолиз и глюконеогенез. Постоянство гомеостаза глюкозы обеспечивается синхронной работой ряда ферментов, в числе которых — АСТ и АЛТ [2]. Ферментемия АСТ отражает интенсивность термогенеза и реакций катаболизма в обмене веществ, активность АЛТ является индикатором глюконеогенеза [2, 3], а величина АСТ/АЛТ отражает баланс реакций катаболизма и анаболизма в гомеостазе глюкозы [2].
Соотношение активности АЛТ и АСТ с концентрацией глюкозы исследовано в основном при заболеваниях, среди которых сахарный диабет 2-го типа (СД2) и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) [3–5] — компоненты метаболического синдрома, имеющие в основе патогенеза инсулинорезистентность и абдоминальное ожирение. Отмечено [6], что распространённость СД2 имеет половые различия, зависящие от стадии репродуктивной жизни, что менопауза изменяет в гомеостазе глюкозы её эффективность, способность стимулировать собственное удаление, а к предикторам риска развития НАЖБП относят возраст старше 45–50 лет и половую принадлежность [4, 6]. В ранее проведенных исследованиях показаны гендерные различия в метаболизме глюкозы: у мужчин чаще отмечали повышение гликемии натощак, а у женщин — нарушение толерантности к глюкозе, но более интенсивную секрецию инсулина и чувствительность к нему [6, 7].
Концентрация глюкозы, лактата, пирувата, активность трансфераз, их соотношение у практически здорового (недиабетического) населения Архангельской области, проживающего на территории приарктического региона, остаются малоизученными. Их изучение может расширить представление о гендерных и возрастных особенностях обмена веществ.
Цель работы. Определить концентрацию глюкозы, лактата, пирувата, активность ферментов АСТ, АЛТ в крови с учётом возраста у женщин и мужчин — жителей приарктического региона, родившихся и постоянно проживающих в Архангельской области.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С 2009 по 2019 год проведено обсервационное, поперечное, неконтролируемое исследование возрастного влияния на концентрацию глюкозы, лактата, пирувата, активность ферментов АСТ и АЛТ у женщин и мужчин зрелого (женщины 21–55 лет, мужчины 22–60 лет) и пожилого возраста (женщины 56–74, мужчины 61–74 лет), родившихся и постоянно проживающих в Архангельской области на территории приарктического региона. Эти территории расположены ниже 66о33'' с.ш., но по экстремальности природно-климатических условий приравнены к Крайнему Северу (постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 г. № 25 «Об отнесении городов и районов Архангельской области к районам Крайнего Севера и местностям, приравненных к районам Крайнего Севера»). Экспедиции для забора крови были организованы в весенний период (март-апрель), чтобы исключить влияние сезона и фотопериодики на изучаемые показатели.
Волонтёры выбраны случайным образом после медицинского осмотра и анкетирования среди лиц I–II групп здоровья. Группы были установлены по результатам диспансеризации (приказ МЗ СССР № 770 от 30.05.1986 г., приказ МЗ РФ № 1006н от 03.12.2012 г.) [8]. При анкетировании спрашивали количество полных лет. В выборку были включены волонтёры только с полным спектром рассматриваемых параметров. Соблюдены нормы и принципы биомедицинской этики (требования Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 2010 года с изменениями 2013 года), все обследованные подписали форму добровольного согласия.
Критерии исключения: лица, состоящие на диспансерном учете у эндокринолога, и лица с острыми соматическими заболеваниями на момент исследования.
Содержание глюкозы, лактата, пирувата, активность АСТ, АЛТ определяли в сыворотке крови. Для этого утром натощак в вакутайнеры брали кровь из локтевой вены, затем в эппендорфы отбирали сыворотку и хранили замороженной до измерений. На биохимических анализаторах Furuno СА-270 (Furuno Electric CO, Япония), «БИАЛАБ-100» («Бианалитика», Россия) и Cary 50 Scan (Австралия) ферментативным методом с помощью наборов фирмы Chronolab AG (Швейцария) определяли содержание глюкозы (ммоль/л), по реакции Триндера — концентрацию лактата (ммоль/л), методом Умбрайта с 2,4 динитрофенилгидразином — концентрацию пирувата (ммоль/л), унифицированным кинетическим методом с использованием наборов линии «ДиаС» («ДИАКОН-ДС», Россия) — активность ферментов АСТ (ЕД/л) и АЛТ (ЕД/л). За физиологически оптимальные значения принимали нормативы соответствующих наборов. Контроль качества выполнения анализов осуществляли с применением контрольных сывороток Contro–N, Lot A 1004 для биохимических лабораторных исследований in vitro производства Chronolab Systemmc.S.L. (Испания). Также был рассчитан коэффициент де Ритиса (величина АСТ/АЛТ), для которого значение 1,5 является оптимально-физиологическим, значения ниже 1,5 показывают на усиление анаболических реакций, а выше 1,5 — катаболических [2].
Для сравнительного анализа полученных значений в результате непропорциональной стратифицированной случайной многоступенчатой выборки были сформированы гендерные группы, а из них — возрастные: женщины 21–35 лет (n=113), 36–45 лет (n=93), 46–55 лет (n=168), 56–74 лет (n=63); мужчины 22–35 лет (n=84), 36–45 лет (n=38), 46–60 лет (n=58), 61–74 лет (n=14) лет [1, 9]. При формировании возрастных групп использовали схему возрастной периодизации (Москва, 1965) [10] с учетом особенностей морфологических и функциональных признаков у северян [11]. Для выявления тенденций в концентрации глюкозы женщин и мужчин в возрастных группах разделили по её значению на 4 подгруппы:
- глюкоза <3,9 ммоль/л — ниже нормы;
- 3,9≤ глюкоза ≤5,6 ммоль/л — норма;
- 5,6< глюкоза ≤6,1 ммоль/л — преддиабетический уровень [12];
- глюкоза >6,1 ммоль/л — выше нормы.
Статистический анализ результатов исследования проводили с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010 и SPSS 22.0 для Windows. Выборки проверяли на нормальность распределения (критерий Шапиро–Уилка) и, учитывая частичную асимметрию рядов распределения исследуемых показателей в группах, использовали методы непараметрической статистики. В качестве меры центральной тенденции были рассчитаны значения медианы (Ме), а меры рассеяния — значения квартилей [25%; 75%]. Для предварительной оценки статистически значимых различий между независимыми выборками использовали непараметрический анализ Краскела–Уоллиса (Н-тест). Сравнение независимых выборок проводили с помощью критерия Манна–Уитни (U-тест). Статистически значимыми считались изменения при вероятности ошибочного принятия нулевой гипотезы р <0,05. Для коррекции вероятности ошибки 1-го типа при сравнении возрастных групп использовали поправку Бонферрони, равную 6 (для 6 сравнений).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате обследования лиц зрелого и пожилого возраста, родившихся и постоянно проживающих в приарктическом регионе Архангельской области (табл. 1), выявлено статистически значимое повышение концентрации глюкозы с возрастом у женщин — с 46 лет (р1–3=0,048; р1–4, 2-4<0,001; р3–4=0,03), которое сопровождалось тенденцией к увеличению концентрации лактата (р1–3=0,084), активности АСТ (р1–3=0,012) и АЛТ (р1–3=0,012).
Таблица 1. Сравнительная характеристика параметров углеводного обмена и ферментов АСТ, АЛТ, коэффициента АСТ/АЛТ у жителей приарктического региона, родившихся и постоянно проживающих в Архангельской области, с учетом возраста и пола, Me [25%; 75%]
Table 1. Comparative characteristics of parameters of carbohydrate metabolism and enzymes AST, AST, ratio AST/ALT in residents of the Arkhangelsk region, born and permanently residing in the Arkhangelsk region, taking into account age and sex, Me [25%; 75%]
Показатели, норма | Пол | Возрастные группы | Н-тест, р | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Количество человек | Ж | 113 | 93 | 168 | 63 | |
М | 84 | 38 | 58 | 14 | ||
Возраст, годы | Ж | 28,96 | 40,88 | 50,62 | 60,56 | |
М | 29,45 | 40,66 | 51,36 | 64,79 | ||
Глюкоза, норма: 3,9–6,1 ммоль/л | Ж | 4,64 | 4,82 | 4,87 | 5,15 | 23,67 <0,001 |
М | 4,71 | 4,97 | 4,86 | 5,35 | 9,16 0,027 | |
Лактат, норма: 0,44–2,2 ммоль/л | Ж | 2,80 | 2,78 | 2,93 | 2,67 | 8,48 0,037 |
М | 3,02 | 2,23 | 2,61 | 2,98 | 7,39 0,063 | |
Пируват, норма: 0,03–0,1 ммоль/л | Ж | 0,031 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 3,01 0,38 |
М | 0,032 | 0,031 | 0,034 | 0,033 | 5,43 0,169 | |
АСТ, норма: Ж — до 31, М — до 38, ЕД/л | Ж | 23,9 | 26,40 | 27,20 | 24,50 | 11,03 0,012 |
М | 22,56 | 21,84 | 24,98 | 25,60 | 1,33 0,711 | |
АЛТ, норма: Ж — до 31, М — до 40, ЕД/л | Ж | 17,2 | 21,60 | 20,15 | 19,7 | 10,91 0,012 |
М | 17,65 (12,25; 24,95] | 17,15 (11,22; 30,72] | 22,15 (15,35; 30,50] | 15,50 (10,90; 20,02] | 7,06 0,070 | |
АСТ/АЛТ, норма: 1,5 у.е. | Ж | 1,39 | 1,29 | 1,37 | 1,43 | 1,08 0,780 |
М | 1,21 | 1,12 | 1,17 | 1,76 | 8,44 0,038 | |
Примечание: возрастные группы: женщины (Ж): 1 — 21–35 лет; 2 — 36–45 лет; 3 — 46–55 лет; 4 — 56–74 лет; мужчины (М): 1 — 22–35 лет; 2 — 36–45 лет; 3 — 46–60 лет; 4 — 61–74 лет. АСТ — аспартатаминотрансфераза; АЛТ — аланинаминотрансфераза. Н-тест — критерий Краскела–Уоллиса; различия статистически значимы при р<0,05.
Note: Age groups were the following: female (F): group 1 (21–35 years), group 2 (36–45 years), group 3 (46–55 years), and group 4 (56–74 years); male (M): group 1 (22–35 years), group 2 (36–45 years), group 3 (46–60 years), and group 4 (61–74 years). AST is aspartate aminotransferase, ALT is alanine aminotransferase, H-test is Kruskal–Wallеs test. The differences are considered significant at р <0.05.
У мужчин также наблюдалось нарастание концентрации глюкозы с возрастом, но статистически значимо — у пожилых лиц (р1–4=0,030) на фоне снижения активности АЛТ (р3–4=0,078) и повышения величины АСТ/АЛТ (р2-4, 3–4=0,084; 0,042).
Возрастных изменений содержания пирувата ни у кого из исследуемых не отмечено.
Анализ отклонений концентрации глюкозы от нормы внутри возрастных групп показал, что во всех группах, кроме мужчин 61–74 лет, отмечены лица с содержанием глюкозы меньше нормы (<3,9 ммоль/л), во всех — с преддиабетическим уровнем (5,6< глюкоза ≤6,1 ммоль/л) и с превышением нормы (глюкоза >6,1 ммоль/л) (рис. 1). При этом возрастные изменения содержания глюкозы у женщин были обусловлены нарастанием частоты регистрации величин, превышающих норму, — от 0,9 до 11,1% (р1–3=0,006; р1–4=0,001; р2–3=0,026; р2–4=0,005), а у мужчин — значений преддиабетического уровня — от 4,7 до 14,3% (р1–4=0,024).
Рис. 1. Процентное распределение лиц по концентрации глюкозы в крови в возрастных подгруппах женщин и мужчин. Глю — глюкоза; Ж — женщины: 1 — возрастная группа 21–35 лет (а); 2 — 36–45 лет (b); 4 — 56–74 лет; М — мужчины: 1 — возрастная группа 22–35 лет (а); 2 — 36–45 лет (b); 4 — 61–74 лет. Различия в концентрации глюкозы между возрастными группами статистически значимы: 1, если р <0,05; 2, если р <0,01.
У значительной части волонтёров содержание лактата было выше нормы, причём процент таких лиц увеличился среди женщин 46–55 лет до 83,9% (р1–3=0,025; р3–4=0,015) и значимо — до 50% — снизился в группе мужчин 36–45 лет (р1–2=0,001; р2–3=0,016). При этом число лиц с содержанием пирувата в крови ниже нормы у женщин и мужчин с возрастом значимо не изменилось и составило в среднем 40,5% у женщин, 35,1% — у мужчин (рис. 2).
Рис. 2. Процентное распределение лиц по концентрации лактата и пирувата в крови в возрастных группах женщин и мужчин. Лак — лактат; Пир — пируват; Ж — женщины: 1 — возрастная группа 21–35 лет (а); 2 — 36–45 лет (b); 3 — 46–55 лет (с); 4 — 56–74 лет; М — мужчины: 1 — возрастная группа 22–35 лет (а); 2 — 36–45 лет (b); 3 — 46–60 лет (с); 4 — 61–74 лет. Различия в концентрации глюкозы между возрастными группами статистически значимы: 1, если р <0,05; 2, если р <0,01.
Возрастные изменения частоты встречаемости высокой активности трансфераз у женщин выразились для АСТ в регистации минимума в возрастной группе 21–35 лет: 12,4% случаев против 30,1–31,5% в остальных группах (р2,3,4=0,001; 0,001; 0,004), а для АЛТ — максимума в группе 36–45 лет — в 20,4% случаев (р1–2=0,009).
Анализ индивидуальных значений АСТ/АЛТ, в отличие от Ме, показал, что во всех возрастных группах независимо от пола есть волонтёры с разными метаболическими потоками в гомеостазе глюкозы (со значениями АСТ/АЛТ больше и меньше 1,5). Кроме того, во всех возрастных группах женщин, а также мужчин до 61 года лица с АСТ/АЛТ <1,5 составили больше половины, а у мужчин пожилого возраста их количество снизилось до 28,6% (рис. 3).
Рис. 3. Процентное распределение лиц по активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови и по величине ее сооотношений в возрастных группах женщин и мужчин. Ж — женщины: 1 — возрастная группа 21–35 лет (а); 2 — 36–45 лет; 3 — 46–55 лет; 4 — 56–74 лет; М — мужчины: 1 — возрастная группа 22–35 лет (а); 2 — 36–45 лет; 3 — 46–60 лет; 4 — 61–74 лет. Различия в концентрации глюкозы между возрастными группами статистически значимы: 1, если р <0,05; 2, если р <0,01.
ОБСУЖДЕНИЕ
Отмечено влияние возраста и пола на метаболизм глюкозы у женщин и мужчин — жителей приарктического региона, родившихся и постоянно проживающих в Архангельской области.
Во-первых, во время проведённого исследования содержание глюкозы у волонтёров чаще соответствовало её концентрации у практически здоровых жителей средней полосы (средние и выше средних в пределах референсного интервала значения глюкозы) [13, 14], а не параметрам «полярного метаболического типа» со склонностью к гипогликемии, установленной у северян ранее [1, 15].
Возрастное повышение концентрации глюкозы в крови у женщин наступило раньше — с 46 лет, тогда как у мужчин — в пожилом возрасте. При этом отмеченное у женщин статистически значимое увеличение активности АСТ, АЛТ в группах 36–45 и 46–55 лет и, наоборот, статистически значимое снижение активности АЛТ у мужчин 61–74 лет свидетельствует о различных механизмах повышения концентрации глюкозы в крови. Если учесть, что этот уровень поддерживается реакциями гликогенолиза и глюконеогенеза [2], активность АСТ отражает интенсивность реакций катаболизма, а АЛТ — глюконеогенеза [2, 3], то у женщин повышение концентрации глюкозы в крови связано с усилением глюконеогенеза и гликогенолиза, а у мужчин — с сохранением активности гликогенолиза. Вместе с тем при большей секреции инсулина и чувствительности к нему у женщин, отмеченной ранее [6], установленное нами повышение концентрации глюкозы и активности АСТ и АЛТ может быть также связано с нарушением толерантности к глюкозе [7], а у мужчин при снижении ферментативной активности АЛТ и повышении коэффициента де Ритиса, вероятно, с усилением катаболических процессов, например липолиза [16]. При этом у мужчин зрелого возраста Ме величины коэффициента де Ритиса ниже 1,3 может говорить об активном переходе белков в углеводы через глюкозо-аланиновый шунт [17].
Во-вторых, в нашем исследовании обнаружена высокая концентрация лактата в крови. У 74,2% мужчин и 75,2% женщин его содержание превышало норму, а у остальных волонтёров было смещено к её верхней границе. Также отмечено увеличение процента лиц с превышением нормы лактата при значимом повышении концентрации глюкозы в крови: у женщин 46–55 лет — до 83,9%, у мужчин 61–74 лет — до 92,9%. Выявленные нами изменения в содержании лактата могут быть связаны с повышением роли глюкозы в энергообмене, так как лактат — промежуточный продукт её анаэробного гликолиза, при котором образуется окисленный НАД+-кофермент, необходимый для реализации цикла трикарбоновых кислот в аэробном образовании энергии [18, 19]. Кроме того, это может быть вызвано недостаточной утилизацией лактата, несмотря на показанную интенсификацию глюконеогенеза с возрастом у женщин, поскольку лактат не только является субстратом для ресинтеза глюкозы, но и вовлекается в энергетический обмен клеток, в том числе непосредственно окисляясь в митохондриях [9, 19]. Меньшее использование лактата как источника энергии может быть обусловлено активным течением гликолиза, снижающегося, однако, с возрастом, и растущим вкладом жиров как энергоносителей. При этом лактат как биоактивный метаболит позволяет инсулинзависимым тканям использовать альтернативные источники энергии, например свободные жирные кислоты (СЖК), вследствие снижения транспортной эффективности инсулина [20, 21], что отмечено при долгосрочном повышении лактата в крови [16]. Ранее установлено также, что подавление лактатом эффектов инсулина ингибирует катализ пирувата до конечных продуктов и усиливает превращение пирувата в лактат [22]. Вероятно, в связи с этим концентрация пирувата в крови в нашем исследовании смещена к нижней границе нормы и ниже неё у значительного числа волонтёров независимо от возраста и пола. В более ранних исследованиях [15, 22] снижение концентрации пирувата у северян также связывали с метаболизмом СЖК. Стоит отметить, что повышение концентрации лактата и снижение концентрации пирувата наблюдают при гипоксических состояниях и заболеваниях, в том числе считают важным маркёром тяжести СД [23], т.е. у части обследованного нами контингента в дальнейшем возможно развитие этой патологии.
Кроме того, существенную роль в обмене веществ играет характер питания [1]. При этом модификация социального уклада жизни северян с изменением структуры питания в сторону преобладания доли углеводов и жиров и уменьшения доли белков за счет меньшего потребления морепродуктов может изменять функционирование метаболических путей и активность ферментных систем [24], в том числе приводить к снижению регистрации гипогликемических состояний и возрастному повышению концентрации глюкозы. Последнее может быть связано также и со снижением двигательной активности с возрастом (в целом для населения Севера разных возрастных групп отмечено распространение гиподинамии) [25].
Рядом исследователей [5, 26] подтверждены связи незначительного повышения активности АЛТ (в пределах нормы) с частотой дисгликемий и со снижением чувствительности к инсулину. Вместе с тем в этих исследованиях отмечено, что соотношение АСТ/АЛТ нагляднее, чем индивидуальная активность АСТ и АЛТ, отражает характер энзимологических сдвигов и катаболический или анаболический характер обмена веществ, поддерживающий концентрацию глюкозы в крови [2]. Сравнение независимых выборок в нашем исследовании показало смещение обмена веществ при обеспечении гомеостаза глюкозы в сторону катаболических реакций лишь у мужчин 61–74 лет (АСТ/АЛТ >1,5), а в остальных возрастных группах мужчин и во всех возрастных группах женщин, наоборот, — в сторону анаболических реакций (АСТ/АЛТ <1,5). Таким образом, у пожилых мужчин-северян значимо более высокий коэффициент де Ритиса, характеризующийся активным поступлением метаболитов в цикле трикарбоновых кислот, свидетельствует о напряжённости энергетических процессов, и повышенные энергетические затраты в этой группе могут привести к истощению функциональных резервов организма [17].
В суровых климатогеографических условиях Севера характеристики «полярного метаболического типа» тесно сопряжены и с особенностями энергообеспечения, и с функцией печени, при этом снижение функциональных возможностей гепатоцитов по метаболизму жиров и детоксикации чужеродных веществ эндогенного и экзогенного происхождения является одним из механизмов развития дизадаптивных расстройств у северян [27]. У них ранее выявлялось увеличение печени, трактовавшееся как нормальное явление вследствие компенсаторной гиперфункции печёночной ткани, а данные обследования пришлого населения на ранних сроках акклиматизации свидетельствовали о напряжённой функции печени [27]. Однако в современных реалиях при изменении качественной структуры питания, снижении двигательной активности можно говорить об истощении резервных возможностей печени и как следствие — о нарастании в крови концентрации СЖК, триглицеридов, холестерина и атерогенных фракций липидов [27], а поскольку печень является ещё и органом-мишенью, атерогенная дислипидемия может выразиться в развитии НАЖБП. Нами не проводились инструментальные исследования печени, но тем не менее обследованный контингент пожилого возраста можно отнести к группе риска развития жирового гепатоза — начальной стадии НАЖБП — вследствие значимого повышения концентрации глюкозы, а также выявленного нами нарастания концентраций жирных кислот, величин ИМТ [28] на фоне возрастного истощения функциональной и рецепторной активности β-клеток поджелудочной железы и формирования инсулинорезистентности [29], несмотря на отсутствие значимого увеличения активности трансаминаз. Ведь начальные стадии гепатоза могут долгое время протекать без клинических изменений показателей крови, и первичными звеньями патогенеза этого заболевания выступают ожирение и сопряжённое с ним избыточное накопление СЖК и триглицеридов в печени, а также инсулинорезистентность, зачастую независимо от ожирения создающая предпосылки для повреждения печени [4]. Формирование у человека жирового гепатоза и инсулинорезистентности может привести к метаболическому синдрому и СД2.
Ограничения исследования. Положительной стороной нашей работы является представление спектра показателей углеводного обмена и активности аминотрансфераз, а также исследование групп женщин и мужчин с учетом их возраста. Недостатком работы можно считать малое количество обследованных мужчин в возрастной группе 61–74 лет. В то же время результаты работы позволяют получить представление о некоторых особенностях изученных параметров у женщин и мужчин в возрастном аспекте и предложить использовать их в качестве платформы для проведения диагностических и превентивных мероприятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установленные нами изменения в содержании глюкозы и её метаболитов в сторону верхнего предела нормы, а лактата — к верхней границе норматива и выше него — указывают на определённую перестройку обмена веществ в сторону дизадаптации у жителей приарктического региона, родившихся и постоянно проживающих в Архангельской области. Увеличение концентрации глюкозы в крови с возрастом (до преддиабетического уровня и выше нормы) среди практически здоровых участников исследования зрелого и пожилого возраста (от 8,0 до 23,8% у женщин и от 8,4 до 21,4% у мужчин) свидетельствует о повышенном риске развития патологических нарушений в её обмене (СД2, метаболический синдром, жировой стеатоз). А различия в активности АЛТ и АСТ при повышении содержания глюкозы в крови (увеличение у женщин активности трансаминаз в группах 36–45 и 46–55 лет, у мужчин — величины коэффициента де Ритиса в пожилом возрасте) отражают усиление анаболических или катаболических процессов в её метаболизме: у женщин положительная возрастная динамика связана с усилением глюконеогенеза и гликогенолиза, у мужчин — с сохранением активности гликогенолиза и усилением катаболических процессов (липолиза). При этом величина соотношения АСТ и АЛТ позволяет не только определить характер энзимологического сдвига, его силу (по величине отклонения от значений, отражающих баланс АСТ/АЛТ=1,5), но и сориентироваться в направлении изменений в обмене веществ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ADDITIONAL INFORMATION
Финансирование. Работа выполнена в соответствии с планом Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук по теме «Эндокринное обеспечение и характер питания в формировании адаптивных изменений в липидном обмене у различных групп населения Арктики на современном этапе» (номер государственной регистрации — 122011800399-2).
Funding source. The study prepared with foundation from N. Laverov Federal center for integrated Arctic research of the Ural branch of the Russian academy of sciences within the programme “Endocrine support and the nature of nutrition in the formation of adaptive changes in lipid metabolism in various groups of the Arctic population at the present stage” (state registration number — 122011800399-2).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Competing interests. The authors declare that there is no conflict of interest.
Вклад авторов. Наибольший вклад распределён следующим образом: Ф.А. Бичкаева — организация и дизайн исследования, редакция и утверждение окончательного варианта статьи; О.С. Власова — подготовка и редакция окончательной версии статьи; Б.А. Шенгоф, А.А. Бичкаев, Е.В. Нестерова — сбор и анализ данных; Н.И. Волкова — подготовка первого варианта статьи. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Authors contribution. The greatest contribution is distributed as follows: F.A. Bichkaeva — organization and design of the study, revision and approval of the final version of the article; O.S. Vlasova — preparation and revision of the final version of the article; B.A. Shengof, A.A. Bichkaev, E.V. Nesterova — data collection and analysis; N.I. Volkova — preparation of the first version of the article. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors have made a significant contribution to the development of the concept, research and preparation of the article, read and approved the final version before publication).
Об авторах
Фатима Артемовна Бичкаева
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Email: fatima@fciarctic.ru
ORCID iD: 0000-0003-0727-3071
SPIN-код: 3562-3921
д.б.н.
Россия, АрхангельскОльга Сергеевна Власова
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Email: olgawlassova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6956-6905
SPIN-код: 3457-9822
к.б.н.
Россия, АрхангельскБорис Александрович Шенгоф
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Email: b-shengof@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3776-1474
SPIN-код: 2259-0799
Россия, Архангельск
Артем Альбертович Бичкаев
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Email: baa29my15@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6307-9399
SPIN-код: 7674-2520
Россия, Архангельск
Екатерина Васильевна Нестерова
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Email: ekaterina29reg@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8467-2514
SPIN-код: 7445-8730
Россия, Архангельск
Наталья Ивановна Волкова
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Автор, ответственный за переписку.
Email: natalja200958@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1958-028X
SPIN-код: 7571-6607
к.б.н.
Россия, АрхангельскСписок литературы
- Панин Л.Е. Гомеостаз и проблемы приполярной медицины (методологические аспекты адаптации) // Сибирский научный медицинский журнал. 2010. Т. 30, № 3. С. 6–11.
- Рослый И.М. Биохимические показатели в медицине и биологии. М : Медицинское информационное агентство, 2015.
- Vozarova B., Stefan N., Lindsay R.S., et al. High alanine aminotransferase is associated with decreased hepatic insulin sensitivity and predicts the development of type 2 diabetes // Diabetes. 2002. Vol. 51, N 6. P. 1889–1895. doi: 10.2337/diabetes.51.6.1889
- Кособян Е.П., Смирнова О.М. Современные концепции патогенеза неалкогольной жировой болезни печени // Сахарный диабет. 2010. Т. 13, № 1. С. 55–64. doi: 10.14341/2072-0351-6018
- Lorenzo C., Hanley A.J., Rewers M.J., Haffner S.M. Discriminatory value of alanine aminotransferase for diabetes prediction: the Insulin resistance atherosclerosis study // Diabet Med. 2016. Vol. 33, N 3. P. 348–355. doi: 10.1111/dme.12835
- Tramunt B., Smati S., Grandgeorge N., et al. Sex differences in metabolic regulation and diabetes susceptibility // Diabetologia. 2020. Vol. 63, N 3. P. 453–461. doi: 10.1007/s00125-019-05040-3
- Williams J.W., Zimmet P.Z., Shaw J.E., et al. Gender differences in the prevalence of impaired fasting glycaemia and impaired glucose tolerance in Mauritius. Does sex matter? // Diabet Med. 2003. Vol. 20, N 11. P. 915–920. doi: 10.1046/j.1464-5491.2003.01059.x
- Бойцов С.А., Вылегжанин С.В., Гамбарян М.Г., и др. Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения: методические рекомендации: утв. Министерством здравоохранения РФ 1 февраля 2013 г. N14-1/10/2-568. Москва : Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины. Доступ по ссылке: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70229844/ (дата обращения: 12.03.2021).
- Мещерякова О.В., Чурова М.В., Немова Н.Н. Митохондриальный лактат-окисляющий комплекс и его значение для поддержания энергетического гомеостаза клеток. В кн.: Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов: сб. науч. статей. Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2010. С. 163–171.
- Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. Москва : Изд-во Московского университета : Наука, 2005.
- Ткачев А.В., Бойко Е.Р., Губкина З.Д., Раменская Е.Б., Суханов С.Г. Эндокринная система и обмен веществ у человека на Севере. Сыктывкар : Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, 1992.
- American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes // Diabetes Care. 2017. Vol. 40, Suppl. 1. P. S11–S24. doi: 10.2337/dc17-S005
- Груздева О.В., Паличева Е.И., Максимов С.А., и др. Гендерные и возрастные особенности концентрации в крови глюкозы и общего холестерина как факторы риска заболеваемости сердечно-сосудистой системы по результатам диспансеризации // Лабораторная служба. 2016. Т. 5, № 2. С. 15–21. doi: 10.17116/labs20165215-21
- Тукин В.Н. Возрастные изменения биохимических показателей крови и их взаимосвязь с жесткостью мембран гемоцитов у здоровых мужчин и женщин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия естественные науки. 2012. Т. 3, № 122. C. 155–160.
- Бойко Е.Р. Физиолого-биохимические основы жизнедеятельности человека на Севере. Екатеринбург : Уральское отделение РАН, 2005.
- Miller B.F., Fattor J.A., Jacobs K.A., et al. Metabolic and cardiorespiratory responses to “the lactate clamp”. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002. Vol. 283, N 5. P. E889–E898. doi: 10.1152/ajpendo.00266.2002
- Кривошапкина З.Н., Миронова Г.Е., Семёнова Е.И., Олесова Л.Д. Биохимический спектр сыворотки крови как показатель адаптированности жителей Якутии к северным условиям // Экология человека. 2015. Т. 22, № 11. С. 19–24. doi: 10.33396/1728-0869-2015-11-25-32
- Jacobs R.A., Meinild A.K., Nordsborg N.B., Lundby C. Lactate oxidation in human skeletal muscle mitochondria // Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013. Vol. 304, N 7. P. E686–E694. doi: 10.1152/ajpendo.00476.2012
- Schurr A. Chapter 2. Lactate, not pyruvate, is the end product of glucose metabolism via glycolysis. In: Caliskan M., editor. Carbohudrate. IntechOpen, 2017. P. 21–35. doi: 10.5772/66699
- Chen Y.D., Varasteh B.B., Reaven G.M. Plasma lactate concentration in obesity and type 2 diabetes // Diabete Metab. 1993. Vol. 19, N 4. P. 348–354.
- Thorburn A.W., Gumbiner B., Bulacan F., Wallace P., Henry R.R. Intracellular glucose oxidation and glycogen synthase activity are reduced in non-insulin-dependent (type II) diabetes independent of impaired glucose uptake // J Clin Invest. 1990. Vol. 85, N 2. P. 522–529. doi: 10.1172/JCI114468
- Кочан Т.И. Закономерности изменения показателей углеводного обмена в организме человека в зависимости от природных факторов Севера // Экология человека. 2006. № 10. С. 3–7.
- Колесникова Л.И., Власов Б.Я., Колесников С.И., и др. Значения лактата, пирувата и их соотношений у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа // Клиническая лабораторная диагностика. 2016. Т. 61, № 7. С. 405–407. doi: 10.18821/0869-2084-2016-7-405-407
- Потеряева О.Н., Осипова Л.П., Русских Г.С., и др. Анализ содержания инсулина, кортизола и глюкозы в сыворотке крови поселковых жителей Ямало-Ненецкого автономного округа // Физиология человека. 2017. Т. 43, № 6. С. 103–108. doi: 10.7868/S013116461706008X
- Корчина Т.Я., Сухарева А.С., Корчин В.И., и др. Обеспеченность витамином D женщин Тюменского Севера // Экология человека. 2019. Т. 26, № 5. С. 31–36. doi: 10.33396/1728-0869-2019-5-31-36
- Higuchi I., Kimura Y., Kobayashi M., et al. Relationships between plasma lactate, plasma alanine, genetic variations in lactate transporters and type 2 diabetes in the Japanese population // Drug Metab Pharmacokinet 2020. Vol. 35, N 1. P. 131–138. doi: 10.1016/j.dmpk.2019.10.001
- Хаснулин В.И., Хаснулин П.В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах // Экология человека. 2012. Т. 19, № 1. С. 3–11.
- Bichkaeva F.A., Volkova N.I., Bichkaev A.A., et al. Correlations of the parameters of carbohydrate metabolism and saturated fatty acids in the blood serum of elderly people // Adv Gerontol 2018. Vol. 8, N 4. P. 347–354. doi: 10.1134/S2079057018040033
- Бичкаева Ф.А., Типисова Е.В., Волкова Н.И. Соотношение содержания инсулина, половых гормонов, стероидсвязывающего β-глобулина, параметров липидного обмена и глюкозы у мужского населения Арктики // Проблемы репродукции. 2016. Т. 22, № 2. С. 99–110. doi: 10.17116/repro201622299-110
Дополнительные файлы