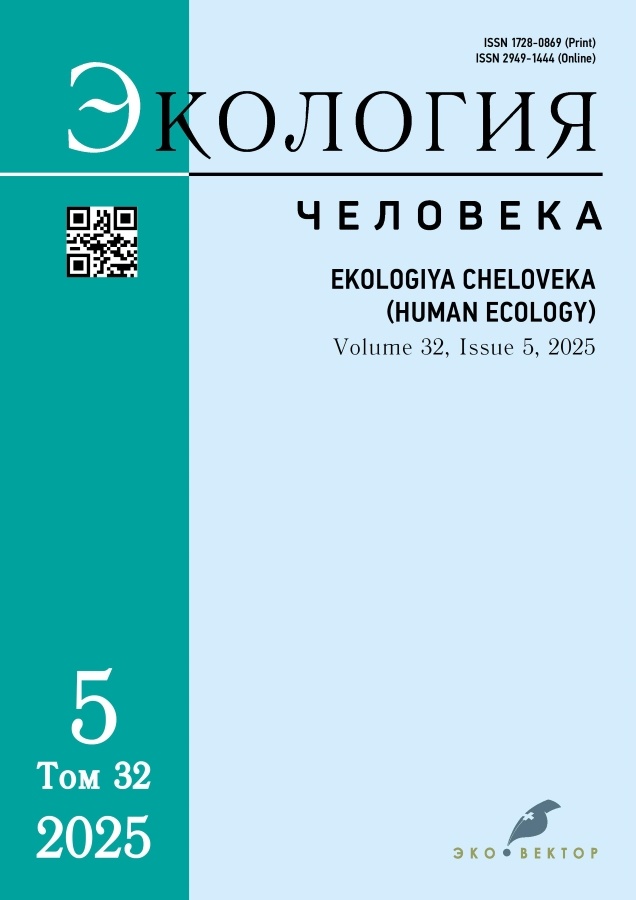Оценка влияния наночастиц металлов и их оксидов на элементный состав органов лабораторных животных и их способность к накоплению
- Авторы: Обидина И.В.1, Чурилов Г.И.1, Иванычева Ю.Н.1, Пронина Е.М.1, Матуа Т.И.1, Черных И.В.1
-
Учреждения:
- Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
- Выпуск: Том 32, № 5 (2025)
- Страницы: 334-343
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Статья получена: 02.12.2024
- Статья одобрена: 30.06.2025
- Статья опубликована: 20.08.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/642454
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco642454
- EDN: https://elibrary.ru/AUCQNQ
- ID: 642454
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Интенсивное развитие нанотехнологий, использование результатов исследований во многих отраслях промышленности, в том числе сельском хозяйстве и медицине, требуют всестороннего изучения воздействия веществ в ультрадисперсном состоянии на человека и животных. В настоящее время сведения о влиянии наночастиц на микроэлементный состав органов и тканей ограничены. Между тем с учётом растущего производства и выброса наночастиц в окружающую среду в ходе технологических процессов необходимо учитывать как прямое, так и опосредованное воздействие частиц различной химической природы.
Цель. Оценить влияние наночастиц меди (Cu), кобальта (Co) и оксида меди (CuO) на поведенческие реакции и микроэлементный состав печени, почек и репродуктивной системы лабораторных животных, а также исследовать их способность к накоплению при внутрижелудочном введении.
Материалы и методы. Эксперимент проведён на самцах мышей линии ICR, разделённых на четыре вариативных группы по 6 особей в каждой, которым вводили внутрижелудочно дистиллированную воду (контроль) или суспензии наночастиц Cu, Co и CuO в течение 20 дней один раз в день в дозах 0,02 мг/кг. Оценивали динамику массы тела, а также уровень тревожности животных (количество вертикальных стоек с опорой и без опоры и количество актов кратковременного груминга). По завершении эксперимента проводили эвтаназию, забор печени, почек и репродуктивных органов, в которых определяли микроэлементный состав методом энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа.
Результаты. Введение всех протестированных наночастиц вызывало у животных проявление признаков тревожности: наблюдалось увеличение количества стоек с опорой (группа, получавшая наночастицы Со) и снижение числа стоек без опоры, сопровождавшееся увеличением актов кратковременного груминга (группы животных, получавших наночастицы Cu и CuO). В этих же группах (Cu, CuO) наблюдалось снижение массы тела животных по сравнению с контрольной группой. Анализ уровня микроэлементов в печени, почках и репродуктивных органах выявил неоднозначные изменения концентрации калия, кальция и серы, увеличение содержания кислорода в семенниках с придатками. Признаков накопления наночастиц Cu, СuO и Co в исследуемых органах не выявлено. Таким образом, токсичность наночастиц реализуется опосредованно, через изменение микроэлементного состава органов, и характеризуется быстрой элиминацией наночастиц.
Заключение. Наночастицы меди, кобальта и оксида меди оказывают разнонаправленное влияние на физиологические показатели и поведение животных, реализуемое опосредованно, через изменение элементного состава их органов. Накопления наночастиц меди, кобальта, оксида меди в исследуемых органах не обнаружено.
Ключевые слова
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Наночастицы (НЧ) различной химической природы продуцируются в ходе промышленных процессов и образуются естественным путём в природе [1]. В организм человека из окружающей среды поступают многообразные субстанции, в том числе в нанодисперсном состоянии. Образующиеся в определённых производственных процессах НЧ и производимые для медицинских и сельскохозяйственных целей нанопорошки, помимо биологической активности, стимуляции процессов роста и развития, защиты от заболеваний, доставки к клеткам лекарственных препаратов, несут угрозу для растительного и животного организма как агенты, способные вызвать окислительный стресс и дисфункцию клеток [2, 3].
Металлы и их оксиды в ультрадисперсном состоянии имеют принципиально иные свойства в сравнении с теми же веществами в макросостоянии или в виде ионов [4]. НЧ способны преодолевать биологические барьеры, потому используются в медицине как терапевтические и диагностические инструменты [5]. Однако ряд исследований указывает на их способность вызывать оксидативный стресс, нарушать микроэлементный баланс и оказывать цитотоксическое действие [6]. В то же время имеются сообщения о быстрой элиминации НЧ без существенного накопления и выраженных токсических проявлений [7].
Диалектика данного вопроса предполагает всестороннее изучение токсикологической безопасности НЧ, воздействующих на человека, животных и растения [8, 9]. Производствам, связанным с наноматериалами, необходимо реально оценивать степень токсикологической опасности хорошо известного материала в новой, ультрадисперсной форме [10]. Для подтверждения приемлемого профиля риска необходимы исследования как in vitro, так и in vivo.
В серии предыдущих экспериментов было показано, что НЧ кобальта, меди, железа, а также оксидов меди, кобальта и цинка оказывают стимулирующее влияние на рост растений [11]. Полученные результаты демонстрировали проявление механизма малых доз и зависимость токсического или стимулирующего действия от размера и концентрации частиц [12]. В большинстве случаев НЧ размером 35–80 нм стимулировали всхожесть, энергию прорастания, активизировали минеральное питание, что подтверждалось изменением микроэлементного состава растений. Было установлено, что НЧ размером 35–60 нм, изменяя рН рабочих растворов, используемых для замачивания семян перед посадкой, могли влиять на трансмембранный потенциал клеток, а также активизировали ферменты и фитогормоны [13]. Через активацию синтеза ферментов такие частицы стимулировали углеводный и азотистый обмен, при этом их накопление в растениях не зафиксировано. В то же время ультрадисперсные оксиды металлов нередко оказывали подавляющее воздействие на ростовые показатели растений, тормозили их развитие и проявляли тенденцию к накоплению [12].
Поскольку такие НЧ применяют для обработки растений, высока вероятность их попадания в организм животных, что требует оценки их воздействия на органы и биохимические параметры. В наших предыдущих исследованиях на крысах и мышах были установлены дозы острого и хронического токсического действия НЧ меди, кобальта, оксидов меди и цинка, а также по результатам биохимического анализа установлена оптимальная доза 0,02 мг/кг, внутрижелудочное введение которой не сопровождается выраженными биохимическими и морфологическими признаками токсичности [14, 15].
Печень, почки и репродуктивные органы традиционно рассматриваются как органы-мишени при изучении токсичности новых соединений из-за их ключевой роли в процессах детоксикации, фильтрации и воспроизводства [16, 17]. Кроме того, металлы в нанодисперсном состоянии не только сами вызывают каскад ответных реакций, но могут действовать опосредованно, через изменение элементного статуса органов и тканей, сведений о таких исследованиях в литературе на данный момент недостаточно [18].
Цель исследования. Изучение влияния НЧ меди (Cu), кобальта (Co) и оксида меди (CuO) на поведение лабораторных животных, изменение массы тела, микроэлементный состав печени, почек и репродуктивной системы при хроническом внутрижелудочном введении, а также оценить способность НЧ к биоаккумуляции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании использовали НЧ меди и кобальта размером 20–50 нм, а также оксида меди размером 40–60 нм. Все наноматериалы были синтезированы в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» методом химико-металлургической металлизации соответствующих гидроксидов в токе водорода. Площадь поверхности частиц определяли методом БЭТ-адсорбции с использованием анализатора Quantachrome NOVA 1200e (Япония). Рентгенофазный анализ на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (Япония) подтвердил сферическую форму частиц.
Объектом исследования являлись лабораторные мыши-самцы ICR (n=24) возрастом 6 недель, массой 18−22 г (ФГБУН «Научный центр биометрических технологий Федерального медико-биологического агентства», Московская область). Животные содержались в стандартных условиях вивария (температура 22±2 °C, относительная влажность 50–60%, световой режим 12/12 ч) с доступом к воде и пище ad libitum.
Исследование проведено в марте 2023 г. Экспериментальная часть выполнялась в виварии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в соответствии с международными правилами (директива 86/609/ЕЕС) и правилами надлежащей лабораторной практики (приказ Минздрава Российской Федерации № 199н от 01.04.1016). Протокол исследования рассмотрен и утверждён на заседании комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных № 22 от 23.01.2020. На протяжении всего периода мыши получали полнорационный гранулированный корм, сбалансированный по питательности, энергии, витаминно-минеральному составу и произведённый в соответствии с ГОСТ Р 50258-92.
Мыши были рандомизированы на четыре группы по шесть особей. Животные 1-й группы (контрольной) получали внутрижелудочно дистиллированную воду; 2-й — суспензию НЧ меди; 3-й — НЧ кобальта; 4-й — НЧ оксида меди. Суспензии НЧ готовили в концентрации 0,002 мг/мл в дистиллированной воде путём диспергирования нанопорошков в ультразвуковой ванне (Град 13–35, НТК «Солтек», Москва) мощностью 150 Вт и частотой 35 кГц в течение 15 мин. Введение осуществляли ежедневно утром, до кормления, в течение 20 сут, в дозе 10 мл/кг по МУ 1.2.2869-11 (Москва, 2011).
Массу тела животных измеряли на лабораторных весах OHAUS (дискретность — 0,01 г) до начала эксперимента, на 6, 11, 16 и 21-й дни. Ежедневно проводили внешний осмотр. Двигательную активность оценивали каждые три дня путём подсчёта вертикальных стоек (с опорой и без) в течение 2 мин в манеже из оргстекла (диаметр 135 мм, высота 350 мм). Дополнительно фиксировали количество актов груминга продолжительностью до 5 с [19].
На 21-й день животных подвергали эвтаназии методом декапитации после предварительной ингаляционной анестезии изофлураном. Проводили забор печени, почек и репродуктивной системы (семенники с придатками) в соответствии с МУ 1.2.2745-10. Органы высушивали в сушильном шкафу в течение 72 ч при температуре 75 °C, затем измельчали в фарфоровых ступках фарфоровыми пестиками.
Элементный состав тканей определяли методом энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре Arl QuantX (Швейцария) в региональном центре зондовой микроскопии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина». Анализ выполняли с использованием программного обеспечения UniQuant с автоматической коррекцией спектральных перекрытий. Также проводили точечный анализ образцов на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV с системой INCA X-MAX (определение всех элементов, кроме водорода, гелия и лития).
Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 12.0. Нормальность распределения проверяли с использованием критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Обработку полученных результатов производили после дисперсионного анализа (нормальное распределение) или критерия Крускала–Уоллиса (аномальное распределение). Соответствующие показатели в каждой экспериментальной группе в конкретный день сравнивали с контролем в аналогичный день (критерий Даннета — масса тела животных и поведенческие реакции в связи с нормальным распределением; критерий Манна–Уитни с поправкой Бонферрони — уровень эссенциальных микроэлементов в связи с аномальным распределением). Данные представлены в виде среднего арифметического значения и стандартной ошибки среднего (нормальное распределение) либо медианы, нижнего и верхнего квартилей (распределение, отличное от нормального). Статистически значимыми считали различия при p <0,05, если данные распределялись нормально, и р <0,017, если распределение данных отличалось от нормального.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Масса тела
Начальная масса тела мышей во всех группах составила в среднем 19,07±0,10 г и в группах не отличалась (р=0,987). Уже с 4-го дня эксперимента в группе, животным которой давали НЧ CuO, отмечалось снижение аппетита, что фиксировалось по увеличению остатка корма в кормушках. На 7-й день ухудшился аппетит у мышей, которым вводили нанодисперсную медь. Проводимые на 6, 11, 16 и 21-й дни взвешивания животных зафиксировали потерю в весе в группах, получавших в суспензиях медь и оксид меди. По сравнению с контрольной, масса в группе животных, получавших НЧ Cu, была ниже к финальному дню на 38,6% (разница средней массы составила 12,27±1,21 г; р <0,001), а в группе, которая получала НЧ CuO, — на 43,9% (меньше, чем в контрольной группе на 13,97±1,46 г; р <0,001). Особи опытной группы, которым вводили нанодисперсный кобальт, употребляли весь выданный корм и демонстрировали прибавку в весе, не имеющую значимых отличий от контроля (р=0,492; рис. 1).
Рис. 1. Динамика массы тела мышей (г) при внутрижелудочном введении наночастиц (НЧ) в течение 21 дня, среднее значение ± стандартная ошибка среднего. * Статистически значимые различия по отношению к контролю (показатели в каждой экспериментальной группе в конкретный день наблюдения сравнивали с контролем в аналогичный день с помощью критерия Даннета); р <0,01.
Fig. 1. Changes in body weight of mice (g) with intragastric administration of nanoparticles (NPs) for 21 days (mean value ± standard error of the mean). * Significant differences in relation to the control group (each experimental group was compared with the control group on a specific day of observation using the Dunnett’s test); p <0.01.
Двигательная активность
Определение вертикального двигательного компонента экспериментальных животных путём подсчёта количества вставаний на задние лапы без опоры и с опорой на бортик в специальной установке проводили на 3, 6, 9, 12 и 18-й день. С 9-го дня эксперимента наблюдалось достоверное снижение количества вертикальных стоек без опоры в группе, получавшей НЧ Cu, на 21,4% (9-й день, р=0,017), 38,7% (12-й день, р=0,037), 43,8% (18-й день, р=0,002) и в группе, получавшей НЧ СuO, на 28,1% (9-й день, р=0,055), 32,25% (12-й день, р=0,011) и 40,6% (18-й день, р=0,002), при этом увеличилось число кратковременных (менее 5 с) актов груминга, что свидетельствует о снижении познавательной активности и является маркером тревожного поведения. Количество стоек с опорой на бортик в этих группах не имело существенных различий с контрольной группой (р=0,567). Животные группы, получавшей НЧ Со, начиная с 9-го дня проявили тенденцию к увеличению подъёмов на задние лапы с опорой на бортик в среднем в 1,53 раза (41,93–53,57%; р=0,013) в сравнении с контролем, сохранившуюся до конца эксперимента. При этом количество актов груминга и стоек без опоры не отличалось от контрольной группы (р=0,352).
Элементный состав биоматериалов
Количественное определение уровней меди (р=0,288), оксида меди (р=0,323) и кобальта (р=0,596) в печени, почках и репродуктивных органах не выявило статистически значимых различий между опытными и контрольной группами, что свидетельствует об отсутствии накопления исследуемых НЧ. Анализ остальных элементов выявил достоверные различия по уровням калия и кальция во всех исследованных органах, серы — в печени и репродуктивных органах, кислорода — в репродуктивных органах.
В тканях печени животных всех экспериментальных групп содержание калия в сравнении с контрольной группой было достоверно повышено. Превышение составляло в группе, получавшей НЧ Cu, 111,8% (р=0,004), в группе, получавшей НЧ Co, — 159,8% (р=0,001), в группе, получавшей НЧ CuO, — 208,1% (р=0,002). Повышенное содержание кальция, обнаруженное в группах, которым давали НЧ Со и CuO, в сравнении с контрольной группой составило 86,2% (р=0,004) и 89,4% (р=0,004) соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Результаты измерений содержания элементов в массовых (весовых) образцах тканей печени, %
Table 1. Measurements of the elements concetration in weight samples of liver tissue, %
Группа | Калий | Кальций |
1-я (контрольная) | 0,259 (0,247; 0,262) | 0,094 (0,077; 0,111) |
2-я (получавшая наночастицы меди) | 0,546 (0,532; 0,574)* | 0,132 (0,114; 0,152) |
3-я (получавшая наночастицы кобальта) | 0,673 (0,648; 0,709)* | 0,175 (0,142; 0,183)* |
4-я (получавшая наночастицы оксида меди) | 0,798 (0,751; 0,836)* | 0,178 (0,157; 0,185)* |
Примечание. * Достоверные различия в сравнении с контролем (р <0,01).
В почках в сравнении с контролем наблюдалось достоверное увеличение элементной серы (НЧ CuO) на 34,4% (р=0,001) и кальция (НЧ Со) на 30,8% (р=0,001), а в группе НЧ CuO уровень кальция понизился на 37,83% (р=0,001). При этом в группах, получавших нанодисперсные Cu и Со, был снижен уровень калия на 66,1 и 42,6% (р=0,001) соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Результаты измерений содержания элементов в массовых (весовых) образцах тканей почек, %
Table 2. Measurements of the elements concetration in weight samples of kidney tissue, %
Группа | Сера | Калий | Кальций |
1-я (контрольная) | 0,442 (0,411; 0,458) | 0,183 (0,177; 0,191) | 0,185 (0,169; 0,193) |
2-я (получавшая наночастицы меди) | 0,407 (0,387; 0,442) | 0,062 (0,059; 0,071)* | 0,122 (0,119; 0,137) |
3-я (получавшая наночастицы кобальта) | 0,518 (0,470; 0,528) | 0,105 (0,103; 0,112)* | 0,242 (0,238; 0,263)* |
4-я (получавшая наночастицы оксида меди) | 0,594 (0,575; 0,613)* | 0,228 (0,221; 0,236) | 0,115 (0,091; 0,120)* |
Примечание. * Достоверные различия в сравнении с контролем (р <0,01).
Значительное снижение содержания серы в семенниках животных группы, получавшей НЧ Со, составило 83,7% (р=0,001), а в группе, которой вводили НЧ CuO, — 54,3% (р=0,001) по сравнению с контролем. Содержание кальция, напротив, было высоким во всех экспериментальных группах: на 52,4% (НЧ Cu; p=0,005), на 44,4% (НЧ Со; р=0,004), на 107,9% (НЧ CuO; р <0,001; табл. 3).
Таблица 3. Результаты измерений содержания элементов в массовых (весовых) образцах тканей репродуктивной системы (семенники с придатками), %
Table 3. Measurements of the elements concetration in weight samples of reproductive tissue (testes and appendages), %
Группа | Сера | Калий | Кальций | Кислород |
1-я (контрольная) | 0,527 (0,518; 0,536) | 0,229 (0,221; 0,236) | 0,126 (0,112; 0,141) | 15,18 (14,70; 15,71) |
2-я (получавшая наночастицы меди) | 0,648 (0,629; 0,707) | 0,503 (0,483; 0,531)* | 0,192 (0,172; 0,214)* | 22,48 (14,01; 25,64) |
3-я (получавшая наночастицы кобальта) | 0,086 (0,079; 0,103)* | 0,287 (0,265; 0,302) | 0,182 (0,171; 0,194)* | 22,85 (20,77; 23,87)* |
4-я (получавшая наночастицы оксида меди) | 0,241 (0,233; 0,271)* | 0,271 (0,261; 0,277) | 0,262 (0,251; 0,277)* | 19,87 (19,12; 20,14)* |
Примечание. * Достоверные различия в сравнении с контролем (р <0,017).
Возрастание концентрации элементного кислорода было обнаружено в репродуктивной системе животных всех опытных групп по сравнению с контролем. Статистически значимые отличия наблюдались в двух группах и составили 50,5% (НЧ Со, р=0,001) и 30,9% (НЧ CuO, р=0,014), что может свидетельствовать о специфическом воздействии указанных НЧ на эти ткани (см. табл. 3). Содержание остальных элементов между группами достоверно не различалось (р=0,392).
ОБСУЖДЕНИЕ
Медь и кобальт играют немаловажную роль в функционировании клеток. Так, цитохром-с-оксидаза, состоящая из нескольких субъединиц, содержащих атом меди, является компонентом электрон-транспортной цепи — общего катаболического пути.
Кобальт прежде всего присутствует в молекуле цианкобаламина, входит в состав активных центров таких значимых ферментов, как метилтрансфераза, рибонуклеозидтрифосфатредуктаза, является коферментом некоторых протеолитических ферментов и способен влиять на метаболизм гема [20].
При внутрижелудочном введении протестированные НЧ, по литературным данным, способны подвергаться энтеральной абсорбции преимущественно путём клатрин-зависимого эндоцитоза [10, 21]. Затем они проникают в кровяное русло и доставляются к органам и тканям, где способны накапливаться [22, 23]. За выведение НЧ из организма во многом ответственны клетки мононуклеарно-фагоцитарной системы, в частности макрофаги [24, 25].
Макро- и микроэлементы, в том числе кальций, калий и сера, выступают в качестве маркеров воздействия токсических агентов [26]. Согласно данным литературы, НЧ меди и кобальта могут повышать содержание в тканях таких эссенциальных элементов, как кальций, магний, железо, марганец, цинк, калий и фосфор [27, 28]. Так как лабораторные животные в течение всего периода эксперимента получали одинаковые по составу корм и воду, изменение уровня элементов в органах может быть связано с изменением их экскреции почками и перераспределением между различными органами под действием вводимых НЧ.
Увеличение содержания калия и кальция в печени и репродуктивной системе может свидетельствовать о нефротоксичности НЧ [29, 30]. Кальций является универсальным гуморальным регулятором [31]. Есть данные, что под действием НЧ развивается окислительный стресс, истощающий антиоксидантные резервы и нарушающий кальциевый гомеостаз [32]. Возможные механизмы включают приток внеклеточного кальция из-за повреждения мембран, индуцированного перекисным окислением липидов, и блокировку кальциевых каналов [33]. Увеличение уровня кальция также может быть связано с его мобилизацией из костной ткани вследствие прямого действия НЧ на остеокласты и остеобласты либо опосредованно — через гормоны паращитовидной железы.
Снижение содержания серы, особенно в репродуктивной системе, может быть связано с нарушением антиоксидантной защиты и белкового обмена. Повышение серы в почках (НЧ CuO) можно интерпретировать как адаптивный механизм — попытку компенсировать оксидативный стресс путём увеличения продукции антиоксидантных серосодержащих соединений, в частности глутатиона [34]. В то же время её снижение в репродуктивных органах (НЧ Co, CuO) указывает на возможный дефицит коферментов и истощение защитных систем [35].
Рост уровня кислорода в репродуктивных органах животных всех опытных групп может быть следствием усиленного перекисного окисления липидов, что характерно для действия НЧ металлов [36]. Это подтверждается снижением уровня серы в тех же органах и говорит о развитии некомпенсированного окислительного стресса. Данный эффект может указывать как на повышенную чувствительность репродуктивной системы к действию НЧ, так и на возможное усиление кровотока, способствующее локальному насыщению тканей кислородом.
Повышение уровня тревожности животных, наблюдаемое при введении НЧ, может быть следствием описанной выше нефротоксичности, а также, по аналогии с ранее описанными НЧ, результатом проникновения частиц через гематоэнцефалический барьер и их токсического действия на центральную нервную систему [37].
Нормальное увеличение массы тела у животных, получавших НЧ кобальта, и её снижение у особей, получавших медь и оксид меди, может быть обусловлено гастротоксическим эффектом последних [38, 39]. Отсутствие накопления меди и кобальта в органах можно объяснить их быстрой элиминацией преимущественно кишечником [40]. Выведение НЧ почками маловероятно в связи с повреждающим действием на данные органы.
Таким образом, все исследованные НЧ в дозе 0,02 мг/кг демонстрируют признаки токсичности, особенно в отношении репродуктивной системы, что согласуется с литературными данными [41, 42]. Именно поэтому при использовании НЧ в агротехнологиях, например для обработки семян, необходимо учитывать возможные риски их последующего попадания в организм животных и человека. Рекомендуется оценка доз, кратности и продолжительности воздействия НЧ, а также вегетационного периода, в течение которого следует их применять. Важно отметить, что прооксидантное действие НЧ может быть снижено за счёт оптимизации их физико-химических свойств — размера, формы, концентрации и рН растворов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЧ меди, кобальта и оксида меди оказывают токсическое действие при хроническом внутрижелудочном введении, проявляющееся нефротоксичностью и активацией процессов перекисного окисления липидов.
Отсутствие значимого накопления меди, оксида меди и кобальта в тканях согласуется с гипотезой о преимущественно транзиторном характере действия исследованных НЧ и их возможной быстрой элиминации из организма. Полученные данные подчёркивают необходимость дальнейших исследований механизмов воздействия НЧ на органы и системы, особенно при длительной экспозиции.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. И.В. Обидина — сбор и обработка материала, анализ данных, написание текста; Г.И. Чурилов — концепция исследования; Ю.Н. Иванычева — разработка дизайна исследования; Е.М. Пронина и Т.И. Матуа — проведение исследований; И.В. Черных — анализ данных, редактирование текста. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Протокол исследования рассмотрен и утверждён на заседании комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России № 22 от 23.01.2020.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Об авторах
Инна Вячеславовна Обидина
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Автор, ответственный за переписку.
Email: inna.obidina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7235-6415
SPIN-код: 8087-7620
канд. биол. наук, доцент
Россия, РязаньГеннадий Иванович Чурилов
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Email: genchurilov@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4056-9248
SPIN-код: 2096-4817
д-р биол наук, профессор
Россия, РязаньЮлия Николаевна Иванычева
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Email: julnic79@mail.ru
ORCID iD: 0009-0007-6930-7296
SPIN-код: 1636-3360
канд. биол. наук, доцент
Россия, РязаньЕлизавета Михайловна Пронина
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Email: pronina.em2002@yandex.ru
Россия, Рязань
Тамрико Игоревна Матуа
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Email: matua.2001@mail.ru
Россия, Рязань
Иван Владимирович Черных
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Email: ivchernykh88@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5618-7607
SPIN-код: 5238-6165
д-р биол. наук, доцент
Россия, РязаньСписок литературы
- Gmoshinski IV, Shipelin VA, Khotimchenko SA. Nanomaterials in food products and their package: comparative analysis of risks and advantages. Health Risk Analysis. 2018;(4):134–142. doi: 10.21668/health.risk/2018.4.16 EDN: YUGSCD
- Vershinina IA, Lebedev SV. Investigation of the responses of the Eisenia fetida worms when copper and zinc nanoparticles are introduced into the habitat. Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2022;(1):45–54. doi: 10.36906/2311-4444/22-1/05 EDN: FYMTIA
- Sutunkova MP, Solovyеva SN, Chernyshov IN, et al. Manifestations of subacute systemic toxicity of lead oxide nanoparticles in rats after an inhalation exposure. Toxicological Review. 2020;(6):3–13. doi: 10.36946/0869-7922-2020-6-3-13 EDN: GPVVHA
- Oberdorster G, Oberdorster E, Oberdorster J. Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles. Environ Health Perspect. 2005;113(7):823–839. doi: 10.1289/ehp.7339
- Chernykh IV, Kopanitsa MA, Shchulkin AV, et al. Evaluation of cytotoxicity of gold glyconanoparticles of human colon adenocarcinoma cells. I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald. 2023;31(2):255–264. doi: 10.17816/PAVL0VJ112525 EDN: BBWWHG
- Sutunkova MP, Minigalieva IA, Privalova LI, et al. Impact of toxicity effects of zinc oxide nanoparticles in rats within acute and subacute experiments. Hygiene and Sanitation. 2021;100(7):704–710. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-7-704-710 EDN: GTJKCC
- Antsiferova AA, Kopaeva MYu, Kochkin VN, Kashkarov PK. Effects of long-term oral administration of silver nanoparticles on the cognitive functions of mammals. Toxicological Review. 2021;29(6):33–38. doi: 10.36946/0869-7922-2021-29-6-33-38 EDN: WASEGZ
- Lutkovskaya YaV, Sizova EA, Kamirova AM. Ultrafine forms of trace elements in the diet of ruminants: impact on productivity and health. The Agrarian Scientific Journal. 2024;(5):96–104. doi: 10.28983/asj.y2024i5pp96-104 EDN: KQORQF
- Onishchenko GG, Tutelyan VA, Gmoshinskiy IV, Khotimchenko SA. Evelopment of the system for nanomaterials and nanotechnology safety in Russian Federation. Hygiene and Sanitation. 2013;92(1):4–11. EDN: PVFGVB
- Awashra M, Młynarz P. The toxicity of nanoparticles and their interaction with cells: an in vitro metabolomic perspective. Nanoscale Adv. 2023;5(10):2674–2723. doi: 10.1039/d2na00534d
- Polishchuk SD, Churilov DG, Churilov GI, et al. Determining the common patterns of nanoparticle effects on physiological and biochemical processes in plants. E3S Web of Conferences. 2023;411:02051. doi: 10.1051/e3sconf/202341102051
- Stepanova IA, Polischuk SD, Churilov DG, et al. Biological activity of cobalt and zinc oxide nanoparticles and their bioaccumulation on the example of vetch. Herald of Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev. 2019;(1):62–67. EDN: EQVUFC
- Churilov GI, Obidina IV, Churilov DG, Polishchuk SD. Influence of the size and concentration of metal nanoparticles on their biological activity. Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. 2020;(3):62–69. EDN: KOWNLD
- Churilov GI, Obidina IV, Churilov DG, et al. Comparative toxicological characteristics of cobalt, copper, copper oxide and zinc nanoparticles. Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. 2020;(4):28–34. doi: 10.37882/2223-2966.2020.04.38EDN: ASCFPX
- Stepanova IA. Mineral and lipid metabolism indicators in livestock after administration of metal nanopowders [dissertation]. Ryazan; 2018. 158 p. (In Russ.) EDN: GYKDWE
- Lee IC, Ko JW, Park SH, et al. Comparative toxicity and biodistribution in rats following subchronic oral exposure to copper nanoparticles and microparticles. Part Fibre Toxicol. 2016;13(1):56. doi: 10.1186/s12989-016-0169-x
- Zinkovskaya I, Ivlieva AL, Petritskaya EN, Rogatkin DA. Unexpected reproductive effect of prolonged oral administration of silver nanoparticles in laboratory mice. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2020;27(10):23–30. doi: 10.33396/1728-0869-2020-10-23-30 EDN: DMCCCS
- Elyasin PA, Zalavina SV, Mashak AN, Skalny AV. Peculiarities of mineral exchange of liver and structure of the mesenterial lymph node of adolescent rats in conditions of lead chronic intoxication. The Siberian Scientific Medical Journal. 2018;38(6):24–28. doi: 10.15372/SSMJ20180604 EDN: YPPDUL
- Apukhtin KV, Shevlyakov AD, Kotova MM, et al. Analyses of rodent grooming and its behavioral microstructure in modern neurobiological studies. Russian Journal of Physiology. 2024;110(6):889–914. doi: 10.31857/S0869813924060022 EDN: BFDDUM
- Pronina IV, Mochalova ES, Efimova YuA, Postnikov PV. Biological functions of cobalt and its toxicology and detection in anti-doping control. Fine Chemical Technologies. 2021;16(4):318–336. doi: 10.32362/2410-6593-2021-16-4-318-336 EDN: SLGLNG
- Sutunkova MP. Toxicological-hygienic criteria and risk management for health impacts of metal-containing nanoparticles [dissertation]. Yekaterinburg; 2019. 317 p. (In Russ.) EDN: RHVLXY
- Zemlyanova MA, Stepankov MS, Ignatova AM. Features of bioaccumulation and toxic effects of copper (II) oxide nanoparticles under the oral route of intake into the body. Toxicological Review. 2021;29(6):47–53. doi: 10.36946/0869-7922-2021-29-6-47-53 EDN: PHYHZY
- Zaytsev VV. Pharmacotoxicological properties and efficacy of cobalt and copper nanoparticle-based compounds in hypomicroelementoses [dissertation]. Astrakhan; 2022. 155 p. (In Russ.) EDN: BFIMNX
- Zelepukin IV. Novel approaches to controlling nanoparticle pharmacokinetics [dissertation]. Moscow; 2021. 109 p. EDN: HIEHCE
- Triboulet S, Aude-Garcia C, Carrière M, et al. Molecular responses of mouse macrophages to copper and copper oxide nanoparticles: proteomic analyses. Mol Cell Proteomics. 2013;12(11):3108–3122. doi: 10.1074/mcp.M112.025205
- Franovskii SYu, Turbinskii VV, Oks EI, Bortnikova SB. Elemental markers of exposure under combined oral introduction of chemical mixtures with prevalent antimony and arsenic into white Wistar rats . Health Risk Analysis. 2019;(3):94–103. doi: 10.21668/health.risk/2019.3.11 EDN: WGXHOB
- Glukhcheva Y, Tinkov AA, Ajsuvakova OP, et al. The impact of perinatal cobalt exposure on iron, copper, manganese, and zinc metabolism in immature ICR mice. Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. 2019;22(3):3–8. doi: 10.29296/25877313-2019-03-01 EDN: YWEEZL
- Sizova EA, Miroshnikov SA, Lebedev SV, Glushchenko NN. Effect of multiple doses of nanoparticles copper on the elemental composition of rat liver. Vestnik of the Orenburg State University. 2012;(6):188–190. EDN: PDQWHL
- Akhpolova VO, Brin VB. Calcium exchange and its hormonal regulation. Journal of Fundamental Medicine and Biology. 2017;(2):38–46. EDN: ZHRGCH
- Manke A, Wang L, Rojanasakul Y. Mechanisms of nanoparticle-induced oxidative stress and toxicity. Biomed Res Int. 2013;2013:942916. doi: 10.1155/2013/942916
- Sakovets TG, Bogdanov EI. Hypokalemic myoplegia. Kazan Medical Journal. 2013;94(6):933–938. doi: 10.17816/KMJ1822 EDN: RSHIY
- Cremades A, Sanchez-Capelo A, Monserrat A, et al. Potassium deficiency effects on potassium, polyamines and amino acids in mouse tissues. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2003;134(3):647–654. doi: 10.1016/s1095-6433(02)00369-0
- Huang CC, Aronstam RS, Chen DR, Huang YW. Oxidative stress and gene expression in lung cells exposed to ZnO nanoparticles. Toxicol In Vitro. 2010;24(1):45–55. doi: 10.1016/j.tiv.2009.09.007
- Iskakova SA. Lipid peroxidation in organs of rats after subchronic sulfur vapor exposure. In: The dynamics of scientific research. Ecology. Publishing house Education and Science s.r.o.; 2008.
- Nimni ME, Han B, Cordoba F. Are we getting enough sulfur in our diet? Nutr Metab. 2007;4:24. doi: 10.1186/1743-7075-4-24
- Min Y, Suminda GGD, Heo Y, et al. Metal-based nanoparticles and their oxidative stress mechanisms. Antioxidants. 2023;12(3):703. doi: 10.3390/antiox12030703
- Hersh AM, Alomari S, Tyler BM. Crossing the Blood-Brain Barrier: Advances in Nanoparticle Technology for Drug Delivery in Neuro-Oncology. Int J Mol Sci. 2022;23(8):4153. doi: 10.3390/ijms23084153
- Zaitseva NV, Zemlyanova MA, Stepankov MS, Ignatova AM. Copper (II) oxide nanoparticles toxicity and potential human health hazards. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2021;28(11):50–57. doi: 10.33396/1728-0869-2021-11-50-57 EDN: BBNUWI
- Zhang H, Wu X, Mehmood K, et al. Intestinal epithelial cell injury induced by copper nanoparticles in piglets. Environ Toxicol Pharmacol. 2017;56:151–156. doi: 10.1016/j.etap.2017.09.010
- Poon W, Zhang YN, Ouyang B, et al. Elimination pathways of nanoparticles. ACS Nano. 2019;13(5):5785–5798. doi: 10.1021/acsnano.9b01383
- Ivlieva AL, Zinkovskaia I, Petriskaya EN, Rogatkin DA. Nanoparticles and nanomaterials as inevitable modern toxic agents. Review. Part 2. Main areas of research on toxicity and techniques to measure a content of nanoparticles in tissues. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2022;29(3):147–162. doi: 10.17816/humeco100156 EDN: CUXNFJ
- Habas K, Demir E, Guo I, et al. Toxicity mechanisms of nanoparticles in the male reproductive system. Drug Metab Rev. 2021;53(4):604–617. doi: 10.1080/03602532.2021.1917597
Дополнительные файлы