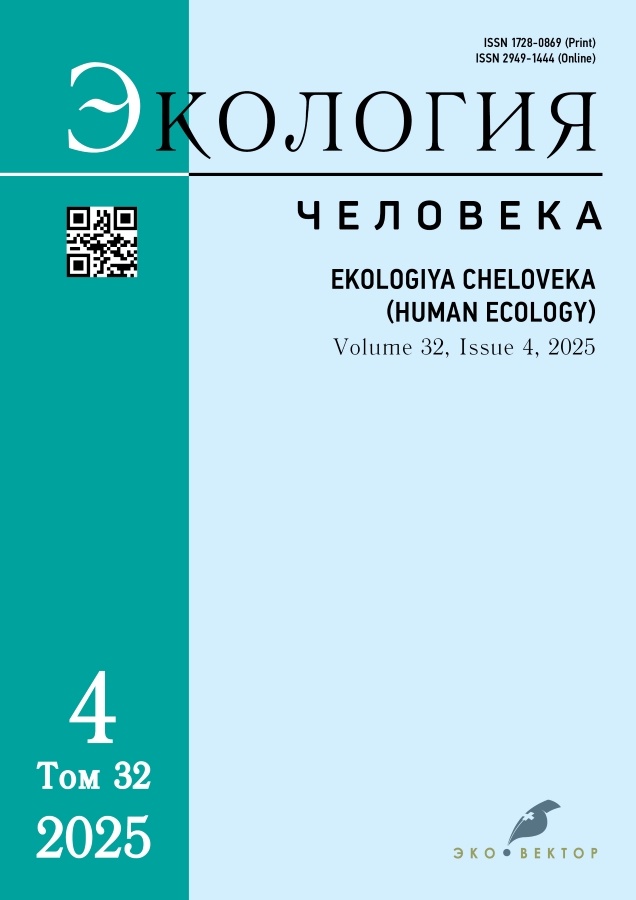Микроэлементный статус и здоровье жителей северных регионов: научный обзор
- Авторы: Горбачев А.Л.1
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова
- Выпуск: Том 32, № 4 (2025)
- Страницы: 225-238
- Раздел: ОБЗОРЫ
- Статья получена: 13.01.2025
- Статья одобрена: 16.06.2025
- Статья опубликована: 28.07.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/646046
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco646046
- EDN: https://elibrary.ru/ILROFE
- ID: 646046
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Литературные данные определяют задачи биогеохимии и вводят её ключевые понятия «живое вещество» и «биогенная миграция химических элементов». Согласно исследованиям, биохимические параметры живых организмов зависят от геохимического окружения и содержания в нём эссенциальных элементов. Учёные предполагают, что физиологическая система микроэлементов у живых организмов служит структурно-функциональной основой метаболических процессов.
Биогеохимические провинции представляют собой территории с нарушенным содержанием химических элементов. Микроэлементозы — геохимические заболевания человека и животных и механизмы их формирования. Данные демонстрируют, что дефицит или избыток биоэлементов в организме человека вызывает психосоматические нарушения: болезни цивилизации, снижение фертильности, увеличение числа бесплодных браков, различные формы девиантного поведения.
Региональные биогеохимические исследования необходимы для изучения распределения химических элементов в окружающей среде, растениях, животных, организме человека. Природно-климатические условия и биогеохимическая характеристика районов Севера малоизучены, особенно в отношении элементного статуса жителей арктических регионов. Низкое содержание эссенциальных элементов в биосфере Севера создаёт биологические нагрузки для жителей и предопределяет риск развития микроэлементозов. Исследования определяют общие черты элементного статуса жителей Азиатского и Европейского Севера: распространение дефицита кобальта, селена, кальция, йода. У мигрантов Севера понижено содержание железа, селена, фтора, что приводит к акклиматизационному дефициту этих элементов.
Литературные данные указывают на загрязнение биосферы Севера. Загрязнение Арктики затрагивает почвенно-растительные комплексы, питьевую воду, а также приводит к кумуляции в живых организмах токсичных элементов: ртути, свинца, кадмия, мышьяка.
Особенности питания в условиях Севера связаны с пониженной долей традиционных продуктов питания в рационе жителей. Природный дефицит эссенциальных элементов, усиленный потерей биологически ценного питания, приводит к увеличению дефицита железа, цинка, кобальта, меди, марганца, йода, селена и снижает адаптационный потенциал организма человека в условиях Севера.
Анализ эколого-медицинских проблем йода позволяет определить его физиологическую роль, оценить уровень обеспеченности йодом населения России, выявить проблему йодного дефицита и предложить пути её коррекции.
В заключении отмечено, что поддержание здоровья жителей Севера требует биогеохимического мониторинга арктических регионов, выявления территорий с повышенной предрасположенностью к биогеохимическим эндемиям и профилактики заболеваний геохимической природы.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Современный этап развития общества показывает, что жизненные показатели человека — здоровье, качество и продолжительность жизни — становятся всё более зависимыми от состояния окружающей среды. Химические элементы служат связующим звеном между косной (неорганической) природой и биосферой (живым веществом). Таким образом, биохимические и физиологические параметры живых организмов определяются геохимическим окружением.
Биогеохимия — раздел геохимии, изучающий взаимосвязь окружающей среды и живых организмов посредством миграции атомов и трансформации энергии. Согласно В.И. Вернадскому, ключевые понятия биогеохимии: «живое вещество» — совокупность живых организмов и «биогенная миграция химических элементов» — перемещение атомов в биосфере в результате жизнедеятельности организмов [1].
У высших организмов система микроэлементов (биоэлементов) представляет собой древнюю физиологическую систему, объединяющую нейроиммуногормональные регуляторные комплексы [2]. Биологическая роль макро- и микроэлементов разнообразна: они участвуют в построении биологических молекул и тканей, процессах дыхания, нервной проводимости, мышечном сокращении, обезвреживании ксенобиотиков и свободных радикалов. Эти элементы также обеспечивают метаболические процессы, регулируя активность ферментов, гормонов, витаминов, цитокинов.
В представленной работе рассмотрены биогеохимические особенности Севера России, проанализирован элементный статус жителей в условиях экстремальных факторов среды, описаны североспецифические микроэлементозы и предложены пути их коррекции.
Систематический обзор литературы проведен по ScR-методологии (scoping review). Для описания стратегии поиска применили рекомендации для систематических обзоров и метаанализов (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, PRISMA). Поиск осуществляли в базах данных eLibrary, PubMed и Scopus по ключевым словам: «биогеохимия» («biogeochemistry»), «химические элементы» («chemical elements»), биогеохимические провинции («biogeochemical provinces»), жители («residents»), микроэлементозы («microelementoses»), Север («North»).
В обзор включили экспериментальные и фундаментальные исследования, проведённые in vivo или in vitro; нарративные и систематические обзоры, а также подробные аннотации статей с результатами исследований. В обзор не вошли публикации, не индексируемые в профильных реферативных базах данных. Отсутствие описанных результатов в свободном доступе служило критерием исключения публикации на этапе анализа, поскольку это затрудняло корректную интерпретацию данных, что можно считать ограничением обзора. Во всех отобранных исследованиях провели библиографический поиск глубиной 80 лет (последний запрос — май 2025 г.). Из около 2000 статей, после скрининга по критериям включения и исключения, для анализа отобрали 75 публикаций.
Биогеохимические провинции
А.П. Виноградов ещё в 1930-х годах, изучая элементный состав организмов, сформулировал концепцию биогеохимических провинций [3]. Сопоставляя гетерогенность химического состава земной коры и экстремальные геохимические территории с развитием краевой патологии человека и животных, он ввёл понятие «биогеохимические провинции». Согласно определению, биогеохимические провинции, представляют собой области Земли, отличные от соседних территорий по содержанию химических элементов и, как следствие, вызывающие ответную реакцию местной флоры и фауны. В настоящее время изучено более 150 различных биогеохимических провинций с неблагоприятными миграционными потоками 20 химических элементов, включая Sr, Se, Sb, Hg, I, Co, Cu, B и U. Наиболее распространёнными являются провинции с недостатком йода, селена, а также с избытком фтора [4]. В условиях экстремальной геохимической среды (резкого дефицита или избытка элементов) в пределах провинций возникают биогеохимические эндемии — заболевания растений и животных. Эндемии природного происхождения затрагивают только человека и интродуцированные виды животных и растений [5].
Со второй половины XX века элементный состав биосферы активно эволюционирует из-за антропогенного воздействия на природную среду и миграции химических веществ. В результате техногенеза трансформируются биогеохимические циклы и возникают искусственные геохимические провинции с аномальным содержанием химических элементов в окружающей среде и в организме, обитающих на этой территории растений, животных и человека.
Микроэлементозы
Высокая динамика социально-экологических процессов, техногенный перенос неорганических веществ, ускорение биосферного обмена химических элементов, социально обусловленная миграция продуктов питания изменяют элементный профиль человеческих популяций, неспособных адаптироваться к стремительным изменениям социума и геохимической среды.
Микроэлементный гомеостаз живых организмов обеспечивает устойчивость индивидуума к воздействию внешней среды. Однако чрезмерные экологические нагрузки, сопровождающиеся изменением химического состава среды обитания, приводят к дисбалансу биоэлементов (дефициту или избытку). Эндогенный дисбаланс элементов вызывает деструктивные изменения клеточно-тканевых компонентов, нарушает металло-лигандные комплексы, ведёт к дисфункции регуляторных систем и развитию микроэлементозов — заболеваний геохимической природы человека и животных [6].
В природных условиях ведущая роль в возникновении эндемических заболеваний обычно принадлежит одному химическому элементу, присутствующему в среде в крайне низкой или избыточной концентрации [4]. Однако микроэлементозы, как правило, возникают из-за полиэлементных нарушений, где один элемент выступает основным патогенным фактором, другие же дополняют или усиливают его действие. В таких случаях эффект микроэлементоза может отражать одновременные нарушения нескольких обменных процессов, в каждом из которых триггерную роль выполняет определённый элемент. Хорошо известны экологически обусловленные заболевания:
- железодефицитная анемия (Fe, Co, Mg, Cu и др.);
- йододефицитные заболевания (I, Se, Zn и др.);
- иммунодефицитные состояния (Se, Zn, I, Fe и др.);
- сердечно-сосудистые заболевания (Se, Fe, K, Mg);
- заболевания опорно-двигательного аппарата (Ca, Mg, Sr, Ba, Si) и другие структурно-функциональные нарушения, связанные с дисбалансом биоэлементов.
Длительный дефицит или недостаточное поступление в организм макро- и микроэлементов приводит к хроническому комплексному гипоэлементозу. У человека и животных это состояние приводит к нарушению обменных процессов, преимущественно за счёт снижения биосинтеза и функциональной активности нуклеиновых кислот, что вызывает нарушение синтеза белков, включая гормоны, ферменты, иммуноглобулины [4].
В связи с риском комплексных микроэлементозов следует отметить особую роль микроэлементов в патогенезе вирусных и инфекционных заболеваний, включая их влияние на развитие вирусных пандемий [5, 7]. Следует отметить, что не все эндемические заболевания достаточно изучены: причины некоторых элементозов не выявлены, а механизмы их развития не до конца исследованы. Клинические проявления определённых эндемий не всегда коррелируют со степенью нарушения концентрации химических элементов во внешней среде (болезнь Кашина–Бека, эндемическая подагра и др.). Явные нарушения функционального состояния и симптомы заболевания часто наблюдают только у 5–20% обследуемых (как в случае эндемии зоба) [5].
Дефицит или избыток в организме биоэлементов лежит в основе различных форм патологии. Дисбаланс биоэлементов и нарушение минерального обмена провоцируют различные формы психосоматических нарушений. Исследователи сформулировали и обосновали гипотезу, что нарушение элементного профиля служит эколого-патологической основой болезней цивилизации (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии, сахарный диабет, нейродегенеративные заболевания и др.) [7].
Среди жителей экологически неблагоприятных регионов с дефицитом жизненно важных элементов (Zn, Se, Fe) отмечают нарушения фертильности [8, 9], увеличение частоты бесплодных браков. Дисбаланс указанных элементов усугубляет демографический кризис [10], а также способствует депопуляции малых народов Севера [11, 12].
Индивидуальные особенности элементного статуса жителей некоторых биогеохимических территорий могут определять психофизиологические черты человека. Показана потенциальная роль биологически значимых элементов в развитии различных форм девиантного поведения (агрессивность, депрессивные состояния, склонность к алкоголизму и употреблению наркотических веществ) [13].
Биоэлементология и её научно-практическое значение
Описанные выше проблемы лежат в сфере относительно нового научного направления — «биоэлементологии» — междисциплинарной науки, изучающей единство неорганического и органического мира на базе химического состава биосферы, включая организм человека [14]. Одним из направлений биоэлементологии является медицинская элементология, задача которой исследовать элементный профиль человека при нарушениях минерального обмена, разрабатывать методы его коррекции, а также научно-практические мероприятия по профилактике элементозов [15]. По мнению исследователей, устранение дефицита биоэлементов и коррекция металло-лигандных комплексов по физиологической значимости сопоставимы с редактированием генома [9].
Учитывая медико-социальную значимость неорганического компонента биосферы, ключевую роль играют знания региональной биогеохимии: распределении химических элементов в окружающей среде, а также в организмах. В этой связи во многих развитых странах исследуют природные и антропогенные факторы, определяющие содержание и распределение химических элементов в почвах, их доступность растениям, способность переходить в гидросферу и атмосферу. В последние десятилетия проводят региональные обследования населения, направленные на контроль обеспеченности популяций эссенциальными элементами и уровня загрязнения токсичными элементами. На основании полученных данных оценивают элементный статус популяций, а государства и международные организации (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и др.) формируют политику в области питания, продовольственной и экологической безопасности [16, 17]. Хорошо известны масштабные проекты по изучению обеспеченности населения железом, йодом, селеном, а также техногенного загрязнения тяжёлыми металлами, и прежде всего ртутью, свинцом, кадмием, мышьяком.
В рамках федеральной программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)» проведено масштабное исследование элементного статуса населения России. Получены данные о содержании химических элементов у жителей федеральных округов, на основе которых издано 5-томное руководство «Элементный статус населения России» [18]. Результаты показали, что наиболее распространённые дефициты в среднем по регионам касались кобальта (60–90%), селена и цинка (до 45%), тогда как избыточные концентрации отмечены для свинца (21%), ртути и кадмия (6%).
Биогеохимические исследования северных территорий
В результате элементного скрининга населения России наименее изученными оказались северные регионы. Это вызвано финансовыми, кадровыми и методическими трудностями при исследовании малонаселённых северных территорий. Однако Север России представляет собой огромную биогеохимическую провинцию со сниженными адаптивными возможностями человека, где нарушения минерального обмена проявляются на популяционном уровне и требуют медико-экологического контроля [19–22].
Исследования указывают на некоторые закономерности элементного статуса жителей Азиатского и Европейского Севера. В частности, у жителей арктических территорий обнаружили пониженное содержание кобальта, селена, кальция, йода. Общие черты элементного профиля северян коррелируют с геохимическими данными и свидетельствуют о единых механизмах биохимической адаптации человека [23].
Геохимическая среда северных регионов характеризуется крайне низким содержанием биогенных элементов из-за минерально-обеднённых подзолистых почв и слабоминерализованной питьевой воды. Почвенные и гидрологические условия Севера создают биологическую нагрузку для населения и повышают риск развития манифестных и скрытых форм микроэлементозов. Кроме того, слабоминерализованная вода способствует развитию вторичных авитаминозов, поскольку минеральные вещества играют ключевую роль в усвоении витаминов.
Статус кальция и магния
Одной из эколого-медицинских проблем жителей Севера выступает дефицит солей кальция и магния, что связано с преимущественным употреблением слабоминерализованных поверхностных вод с пониженной жёсткостью [24, 25]. При этом химический состав поверхностных вод влияет на содержание минеральных веществ и в подземных источниках, которые также используют в питьевых целях [26].
Исследования установили различия в заболеваемости органов кровообращения в зависимости от жёсткости питьевой воды: низкая концентрация ионов Ca2+ и Mg2+ коррелирует с повышением заболеваемости и смертности [10]. Дефицит этих элементов способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонической болезни. В регионах с мягкой водой уровень заболеваемости гипертонией на 25–30% выше, чем в других регионах. Основную роль в развитии артериальной гипертензии играет магний, дефицит которого рассматривают как ключевой фактор патогенеза [27, 28]. При этом достаточный уровень кальция, магния и основных микроэлементов обеспечивает защитный эффект жёсткой воды, снижая уровень смертности [29].
У жителей Севера отмечено сниженное содержание кальция, обусловленное не только использованием мягкой питьевой воды, но и другими североспецифическими факторами: гипоинсоляцией (дефицит витамина D), акклиматизационным понижением содержания кальция, хроническим воздействием низких температур (участие в терморегуляции). Согласно классическим представления, холод-индуцированное понижение кальция в крови связано с ролью ионов кальция в поддержании температурного гомеостаза. Показано, что холодовая адаптация приводит к достоверному снижению концентрации ионов кальция в крови [30].
Слабоминерализованная (ультрапресная) вода не только провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, но и способствует развитию вторичных гиповитаминозов. Возможный дефицит витаминов связан с физиологической (конкурентной) ролью минеральных веществ (соли меди, железа) в усвоении организмом водорастворимых витаминов В1, В12 [31].
У мигрантов Севера с увеличением продолжительности проживания в экстремальных условиях отмечают снижение содержания не только кальция, но и других эссенциальных элементов: железа, селена, фтора. Это свидетельствует о функциональном истощении резервов указанных элементов и формировании их акклиматизационного дефицита [32].
Высокая распространённость железодефицитных состояний у жителей Севера обусловлена повышенным расходом железа из-за усиления адаптивных анаболических и катаболических процессов под воздействием экстремальных факторов среды, прежде всего холода [6, 32]. Понятие акклиматизационного дефицита микроэлементов в экстремальных условиях относят только к физиологическим уровням поступления элементов. В случае их избыточности во внешней среде некоторые авторы предлагают термин «акклиматизационная блокада процессов накопления микроэлементов в организме» [33].
Загрязнение арктических территорий
Проблема природных (эндемических) элементозов усугубляется антропогенным фактором и накоплением в биосфере тяжёлых металлов Cu, Zn, Pb и Cd. Некоторые исследователи полагают, что загрязнение металлами носит локальный характер, и биогеохимические исследования больших условно фоновых территорий не всегда подтверждают глобальный характер загрязнения. Напротив, выявляют недостаток эссенциальных элементов (Cu, Zn, Co, Mo) [5]. Однако загрязнение арктических территорий носит глобальный характер. Кроме локального техногенного воздействия, экологическое неблагополучие арктического бассейна России определяют ветровой и гидрологический режимы. Воздушные массы, проходя над промышленными центрами Европы, Азии и Америки, захватывают химические выбросы и переносят стойкие органические поллютанты в Арктику. Зимой ветры приносят вредные вещества к арктическим побережьям преимущественно из Европы и Азии, летом — из Америки. По сравнению с другими высокоширотными территориями, именно арктические регионы России демонстрируют наиболее высокий уровень загрязнения стойкими органическими загрязнителями и тяжёлыми металлами [34, 35].
Комплекс промышленных предприятий формирует вокруг себя техногенные биогеохимические провинции с повышенным содержанием в биосфере свинца, мышьяка, фтора, ртути, кадмия, марганца, никеля и других элементов. В условиях Севера микроэлементные загрязнения распространяются не только вблизи промышленных зон, но и на значительные расстояния из-за переноса загрязнителей воздушными потоками [33]. По мнению исследователей, при географических различиях в загрязнении арктических территорий следует учитывать движение воздушных масс и океанических течений, переносящих загрязняющие вещества на огромные расстояния, а также протяжённость и географию миграционных путей птиц, рыбы и морских млекопитающих.
Загрязнение Арктики затрагивает почвенно-растительные комплексы и питьевую воду [36, 37], а также приводит к накоплению в живых организмах токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк), преимущественно за счёт переноса поллютантов из средних широт [35, 37].
Антропогенное загрязнение Арктики усиливают природно-климатические факторы. Исследования показывают, что содержание Fe, Zn, V, Cu, Ni, Mo, Co в арктических льдах существенно выше, чем в поверхностных водах. В этой связи таяние ледников служит дополнительным источником тяжёлых металлов, поступающих в гидросферу Арктики. Учёные показали кумуляцию токсичных элементов в биосфере северных регионов — в растениях (ягель), мясе (оленина, морские млекопитающие), птице, рыбе и морепродуктах [38].
Неблагоприятная экологическая обстановка в Арктике повышает риск развития заболеваний у человека [39, 40, 29]. Комплексы тяжёлых металлов, поступая через пищевые цепи, провоцируют развитие хронической сердечной недостаточности, нейродегенеративных патологий, воспалительных заболеваний кишечника, хронических болезней почек, иммуноаллергических расстройств. Они также развивают репродуктивную токсичность и проявляют свойства дисрегуляторов эндокринной системы [41].
Загрязнение ртутью
Сравнение уровней экспозиции токсичными веществами населения циркумполярной Арктики с данными биомониторинга в других регионах показало, что арктические популяции испытывают более тяжёлые нагрузки некоторыми поллютантами. Например, концентрации ртути в крови жителей Арктики значительно превышают аналогичные показатели у населения США и Канады, не проживающего в арктических регионах [35].
Ртуть — опасный загрязнитель, оказывающий прямое негативное воздействие на арктические экосистемы и здоровье человека. Этот металл входит в число наиболее токсичных веществ и действует как кумулятивный яд. По данным ВОЗ, ртуть относят к десяти основным химическим веществам, создающим серьёзную угрозу для общественного здравоохранения [42].
Метаанализ данных о содержании ртути в индикаторных организмах Севера продемонстрировал чёткую тенденцию к росту концентрации этого металла с запада на восток. Помимо техногенных источников загрязнения, существенную роль в содержании ртути в биосфере Арктики играют лесные пожары, которые «выбрасывают» в атмосферу почвенную ртуть [43].
Миграция ртути по трофическим цепям наземных экосистем имеет естественные ограничения, обусловленные её связыванием почвенными соединениями гумусовых кислот [44]. Наибольшему риску загрязнения подвержены водные экосистемы, о чём свидетельствует увеличение концентрации ртути в арктических озёрах. Растущее загрязнение среды создаёт условия для кумуляции ртути в водных пищевых цепях, вследствие чего морские и пресноводные рыбы, а также продукты их переработки становятся основными источниками поступления ртути в организм человека [45]. В регионах Севера, кроме рыбы, значительное количество ртути содержит мясо морских млекопитающих. В тканях рыб и животных происходит накопление ртути в форме метилртути (MeHg) — высокотоксичного органического соединения, сильнодействующего нейротоксина.
Содержание ртути в рыбе и рыбопродуктах может многократно превышать предельно допустимые концентрации (0,5–1,0 мг/кг). Критерии загрязнения продуктов различны: европейское экономическое сообщество устанавливает предельное значение в 0,3 мг ртути на 1 г рыбы (сырой вес). ВОЗ и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) рекомендуют максимально допустимые концентрации 0,5 и 1,0 мг ртути на 1 г рыбы и рыбопродуктов соответственно.
Помимо рыбы, исследования фиксируют повышенное содержание ртути и свинца в мясе северных оленей, а также существенное повышение ртути и селена в печени полярных медведей Канады, Аляски и Гренландии (избыток селена также оказывает токсический эффект) [46]. У беременных женщин, проживающих в Гренландии, обнаружили корреляцию между потреблением морепродуктов и концентрацией ртути в крови. При этом показано, что ртуть нарушает репродуктивную функцию и представляет опасность для фертильности и исхода беременности [47].
Несмотря на то, что традиционный рацион аборигенов Севера служит важнейшим источником макро- и микронутриентов, он также содержит повышенный уровень хлорорганических соединений, радионуклидов, а также тяжёлых металлов. В российской Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке зафиксировано загрязнение пищи ртутью, свинцом, мышьяком и кадмием [34]. У 96% коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа (континентальный регион) зарегистрировали повышенное содержание ртути, которое в 4 раза превышало норму и коррелировало с высокой концентрацией этого элемента в пресноводной рыбе [48]. Показано превышение допустимого содержания ртути в горбуше, выловленной в реках континентальной Чукотки — источниках питьевой воды для местных жителей [49].
Исследования элементного статуса жителей Магаданской области и Чукотки выявили ртуть и свинец в волосах коренных жителей приморских посёлков, включая детей, основу рациона которых составляет рыба и морепродукты [50]. Содержание ртути не превышало биологически допустимого значения — 5,0 мкг, но было выше фоновых показателей по России (0,5–1,0 мкг/г).
Метаболические отношения в системе «ртуть–селен»
При анализе токсичных элементов в организме человека следует учитывать сложные конкурентно антагонистические взаимодействия между элементами. Эти взаимосвязи могут приводить к вытеснению эссенциальных элементов токсичными, что способствует развитию вторичных гипоэлементозов. Физиологическими антагонистами ртути выступают селен и сера. Селен, как антиоксидант и иммуномодулирующий агент, служит функциональным антидотом ртути. В свою очередь, избыточные концентрации ртути вытесняют селен из биологических сред [51, 52].
Ртуть вызывает дефицит селена и непосредственно ингибирует его роль в регуляции внутриклеточной окислительно-восстановительной среды. Селен снижает токсичность ртути, благодаря нескольким механизмам: уменьшает всасывание ртути в желудочно-кишечном тракте, способствует деметилированию органических соединений ртути с образованием неорганической формы и восстанавливает активность селенопротеинов [52].
Известно о сильной положительной корреляции между содержанием ртути и селена в тканях рыбоядных животных, особенно хищных морских млекопитающих. Метаболические отношения ртути и селена отражают взаимодействие системы «токсикант–нутриент», что необходимо учитывать при оценке их баланса в окружающей среде. Млекопитающие и птицы с высоким трофическим уровнем могут частично компенсировать токсическое действие метилртути путём хелатирования неорганической ртути селеном. Исследователи изучили распределение ртути и селена в мышцах, печени и почках у множества видов морских животных. Результаты показали, что у большинства особей молярные концентрации селена превышали показатели ртути [53].
Дальнейшая техногенная аккумуляция ртути в Мировом океане может превысить компенсаторные возможности элементов-антагонистов, создавая потенциальную угрозу для арктических экосистем и здоровья населения. Ещё в 1970-х годах исследователи обнаружили повышенное содержание ртути в волосах аборигенов Чукотки — чукчей и эскимосов [54]. При этом избыток ртути уже тогда соответствовал районам с геохимическими аномалиями. Однако высокие концентрации ртути были сбалансированы повышенным содержанием селена. Высокие концентрации обоих элементов объяснимы особенностями рациона аборигенов, которые потребляют мясо морских животных (китов, моржей, тюленей), богатое как селеном, так и метилртутью.
Ртуть и её соединения оказывают не только общетоксическое действие, но и проявляют гонадотоксические, эмбриотоксические, тератогенные и мутагенные свойства. Существует предположение о канцерогенности и неорганической ртути [44]. Широкое распространение дефицита селена у современной популяции жителей Севера на фоне накопления ртути в организме может приводить к хроническому меркуриализму.
Симптомы ртутной интоксикации затрагивают преимущественно нервную систему. По данным ВОЗ, ежедневное поступление метилртути в дозе 3,0–7,0 мкг/кг повышает риск неврологических заболеваний на 5% [42]. Помимо неврологических расстройств, избыток ртути провоцирует развитие сахарного диабета и гипертонии. Также обсуждают роль ртути в формировании аутистического поведения [55].
Североспецифические факторы и здоровье жителей Севера
Арктические территории — это среда, где человек испытывает сильное воздействие комплекса природно-климатических факторов. К ним относят экстремальные температурный и ветровой режимы, повышенные энергозатраты, контрастный ритм фотопериодичности, резкие перепады атмосферного давления, гипоксию, аномалии геомагнитных полей, пустынность и однообразие ландшафта и др. [56, 40].
Комплекс природно-климатических факторов Севера формирует глобальный медико-биологический феномен — «синдром полярного напряжения» или «экологически обусловленный северный стресс» [57]. Это состояние приводит к нарушению обменных процессов и развитию краевых форм патологии. В то же время Север служит уникальной природной лабораторией для исследования адаптивных реакций человека. Длительное проживание коренного населения в экстремальных условиях и миграция людей из более благоприятных климатических зон, сопровождающиеся адаптивными и дизадаптивными реакциями, создают естественную базу для исследований в области экологической физиологии, включая изучение резервных возможностей человека в условиях Арктики. Особый интерес представляют изолированные аборигенные сообщества, проживающие в отдалённых районах Севера и сохранившие этнические традиции, обычаи и быт. Такие изолированные сообщества аборигенов служат уникальной моделью для изучения возможностей выживания человека в экстремальных условиях (климат, геохимия, питание, здоровье, продолжительность жизни).
Действие специфических факторов Севера, таких как фотопериодизм, аномалии магнитных полей и колебания атмосферного давления, практически невозможно блокировать социальными или защитными мерами. Однако современные достижения цивилизации — сбалансированное питание, соответствующее метаболическим потребностям, и функциональная одежда — позволяют частично компенсировать экстремальное воздействие Севера. Тем не менее, некоторые факторы невозможно ослабить, нейтрализовать или компенсировать. Помимо сезонной светопериодичности, геомагнитных аномалий и перепадов атмосферного давления, к постоянным экологическим факторам Севера относят геохимические особенности арктических регионов — подзолистые почвы и слабоминерализованную питьевую воду. Указанные факторы предопределяют потенциальный дефицит эссенциальных микроэлементов. Кроме того, у мигрантов бедная минеральными веществами окружающая среда усугубляет акклиматизационный дефицит железа, фтора, селена, кальция, который и без того характерен для несбалансированного рациона как мигрантов, так и коренного населения. При этом основную роль в нарушении обменно-адаптивных процессов и формирования северной патологии играет именно питание [58–61].
Особенности питания жителей Севера
Сохранение здоровья в условиях сурового климата возможно лишь при полноценном питании, которое напрямую влияет как на состояние организма в целом, так и на активность его отдельных функциональных систем. Питание, как постоянно действующий социально-экологический фактор, должно быть не только полноценным, сбалансированным и соответствовать физической активности и полу, но и учитывать климатогеографические условия проживания, национальные особенности и пищевые привычки [62].
Аборигенное население Арктики адаптировано к природно-климатической среде, включая и биогеохимическое окружение. Исследователи считают, что эволюционно выработанные механизмы обмена веществ закреплены генетически [63]. Однако изменения природно-социальной среды (климата, экологии, образа жизни и питания) могут на эпигенетическом уровне нарушить наследственные механизмы обмена.
Разрушение традиционного уклада жизни аборигенного населения Арктики изменило и их рацион [58]. Структура питания современного коренного жителя Севера приобрела выраженный углеводно-липидный характер с пониженным содержанием витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и других важнейших нутриентов. Некоторые авторы связывают это с повышением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и алиментарно-зависимой патологии [62].
Традиционное питание жителей Арктической зоны, удовлетворяющее нутриентным потребностям и покрывающее энергозатраты, включает регулярное (не реже 3 раз в неделю) потребление местной рыбы и оленины [64, 65]. Однако такой режим питания для коренного населения не является общедоступным.
В связи с изменением природно-климатических условий арктических территорий (сдвиг сезонов, аномалии ледовой обстановки) уменьшилась добыча морских млекопитающих [34]. За последние десятилетия на Севере, в частности в Архангельской области, снизилась численность предприятий рыболовства и рыбоводства. Объёмы вылова рыбы также существенно снизились (почти втрое) по сравнению с пиковым периодом 1980-х гг. [66].
Приведённые данные, хотя и не исчерпывающие, свидетельствуют о сокращении доли традиционных продуктов в рационе жителей северных регионов. Переход на западный тип питания, вследствие изменения соотношения макронутриентов (белков, жиров, углеводов), привёл к снижению потребления витаминов и минеральных веществ. Это снижает адаптационный потенциал организма и биологическую устойчивость человека в условиях Севера [29, 58]. При этом у аборигенов отмечают гиповитаминозы и появление ранее нехарактерных для них болезней, в частности рахита [34].
Элементный статус коренных и пришлых жителей Севера
Природный дефицит биогенных элементов, усиленный потерей биологически ценного питания, на фоне метаболических нарушений, приводит к возрастанию у коренных жителей Севера дефицита эссенциальных микроэлементов. У современной популяции коренных народов, в частности у аборигенов Северо-Востока России (эвены, коряки, чукчи), исследователи отмечают пониженное содержание эссенциальных элементов (кобальта, магния, хрома, йода, селена) [67]. В некоторых аборигенных группах зафиксировали повышенное содержание ртути и свинца, что может быть связано с преобладанием в рационе рыбы и морепродуктов [68].
Биогеохимические условия северных территорий, относительно благоприятные для коренных жителей, могут вызывать дискомфорт у приезжего населения. Адаптивные перестройки организма мигрантов в условиях Севера протекают с выраженным напряжением функциональных систем и тенденцией к декомпенсации, что приводит к формированию акклиматизационного дефицита элементов и усугубляет природную недостаточность биогенных элементов.
Исследования показывают, что у мигрантов с увеличением времени проживания на арктических территориях развивается функциональное истощение резерва некоторых эссенциальных элементов: кальция, селена, железа, фтора. В этой связи трудовая миграция населения и незавершённая адаптация приезжих к среде обитания [69], в том числе и к геохимическому окружению, способствуют развитию многофакторных заболеваний [70], включая комплексные элементозы.
При планировании биогеохимических исследований в арктических регионах уже априори можно прогнозировать недостаток в биосфере кобальта, селена, железа, йода, кальция, магния и повышенное содержание ртути, свинца, кадмия. Крайние отклонения в концентрации этих элементов вызывают нарушения минерального обмена у растений, животных и человека. Возможные эндемии природного или техногенного генеза могут быть связаны как с дисбалансом отдельных элементов, так и с негативным воздействием на биоту их непредсказуемых комбинаций.
Йод, его биологическая роль. Йодный статус населения России
При исследовании биогеохимии арктических территорий следует уделить особое внимание йоду. Йод является незаменимым структурным элементом тиреоидных гормонов, синтезируемых щитовидной железой [71]. Это основополагающий элемент жизни: регуляторное действие йодированных гормонов охватывает практически все виды жизненных функций человека — от контроля основного обмена до развития мозга и формирования интеллекта. Недостаток йода приводит к функциональному напряжению щитовидной железы и вызывает комплекс патологических изменений, известных как йододефицитные заболевания: эндемический зоб, гипотиреоз, нарушение физического и умственного развития, снижение иммунитета, репродуктивные дисфункции, преждевременное старение и др. Среди эндокринных нарушений йододефицитные заболевания занимают второе место после сахарного диабета, при этом до 80% случаев связаны с хроническим недостатком йода в рационе.
Нормальный обмен йода требует его поступления в суточной дозе примерно 3 мкг/кг, что составляет не менее 150–250 мкг для взрослого человека. Однако в России фактическое суточное потребление йода составляет 40–80 мкг, что в 2–3 раза меньше рекомендованной нормы. Практически на всей территории страны наблюдают йодный дефицит различной степени тяжести, включая случаи врождённой недостаточности. В некоторых регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, некоторые районы Архангельской области) обнаружены очаги тяжёлого йодного дефицита [72, 73].
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным, дешёвым и безопасным методом ликвидации и профилактики йододефицита служит использование йодированной пищевой соли. Благодаря программам йодирования соли многие страны значительно сократили распространённость йодного дефицита [73]. Успешную массовую йодную профилактику проводят в большинстве стран мира, в том числе в США, Канаде, европейских странах. За период 1990–2022 гг. в 126 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, приняли законодательство по йодированию соли. Всемирное сообщество признало эту стратегию «глобальной историей успеха» [72].
Несмотря на успешный международный опыт в России отсутствуют системные мероприятия по борьбе с йододефицитными заболеваниями. Обязательное использование йодированной соли ввели только в 2020 г., и только для учащихся общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.5.2409–08). Отсутствие законодательной базы о всеобщем йодировании соли объясняет сохранение популяционного йододефицита и рост патологий щитовидной железы среди населения России.
Таким образом, основные причины дефицита йода у жителей арктических регионов России включают природно-социальные факторы: дефицит йода в биосфере, сокращение потребления традиционных продуктов питания (рыбы и морепродуктов, мяса морских млекопитающих). Указанные факторы, усиленные отсутствием должной йодной профилактики, формируют эколого-социальную основу для развития тяжёлых форм йодного дефицита.
При анализе йодных провинций следует учитывать, что не все регионы России испытывают дефицит. Некоторые регионы, напротив, отличаются повышенным содержанием йода в биосфере из-за его высокой концентрации в природных водах. Аккумуляция йода в воде, происходит в районах, где нефте- и газоносные пласты залегают близко к водоносным слоям. Подземные воды таких зон, используемые для водоснабжения и орошения сельскохозяйственных культур, содержат высокие концентрации йода, позволяющие проводить его промышленную добычу.
Согласно данным биогеохимической лаборатории АН СССР [74], граница естественной распространённости йододефицитного зоба в России проходит по реке Вычегда (Республика Коми, Архангельская обл.). Территории к северу от р. Вычегды считают йодообеспеченными. Например, подземные воды Северодвинской впадины на Европейском Севере содержат йод в концентрации 5–30,5 мг/л [75], что позволило разработать на этой территории технологию получения кристаллического йода.
Заключение
Природно-климатические факторы, включая влияние среды обитания с дефицитом минеральных веществ, негативно воздействуют на население арктических регионов. Это приводит к развитию специфических элементозов, снижающих адаптивные возможности северных популяций. Для решения проблемы необходимо внедрить медико-экологический контроль за здоровьем жителей арктических регионов и профилактику заболеваний геохимической природы.
Активное освоение северных территорий, разработка арктического шельфа, разведка и добыча полезных ископаемых, а также защита государственных границ усиливает приток людей из других регионов России (военнослужащие, вахтовые рабочие, долгосрочные мигранты). В связи с высокой социально-миграционной активностью необходимо проводить биогеохимические исследования, включая геохимическое районирование арктических регионов (анализ воды, почвы, продуктов питания, элементного статуса населения). Это позволит выявить регионы с повышенной предрасположенностью к биогеохимическим эндемиям и разработать методы коррекции и профилактики северных элементозов.
Дополнительная информация
Вклад авторов. А.Л. Горбачев — сбор и анализ литературы, написание текста. Автор подтверждает соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведения исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Не применимо.
Согласие на публикацию. Не применимо.
Источник финансирования. Автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Раскрытие интересов. Автор заявляет об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Заявление об оригинальности. При создании настоящей работы автор не использовал ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Additional information
Author contributions: A.L. Gorbachev: collection and analysis of sources, writing—original draft. The author confirms that his authorship meets the ICMJE criteria (the author made a substantial contribution to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication).
Ethics approval: Not applicable.
Consent for publication: Not applicable.
Funding sources: The author declares no external funding was received for the study.
Disclosure of interests: The author has no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
Об авторах
Анатолий Леонидович Горбачев
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова
Автор, ответственный за переписку.
Email: gor000@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2432-3408
SPIN-код: 7050-3412
д-р. биол. наук
Россия, 163020, г. Архангельск, Никольский пр-т, 20Список литературы
- Vernadsky VI. Biogeochemical essays. Moscow-Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences; 1940. (In Russ)
- Akmayev IG. Neuroimmunoendocrinology, its developmental consideration. Uspekhi Fiziologicheskikh Nauk. 2003;34(4):4–15. (In Russ.) EDN: OPKGWR
- Vinogradov AP. Biogeochemical provinces and endemics. DAN SSSR. 1938;18(4/5):283–286. (In Russ.)
- Ermakov VV. A.P. Vinogradov's concept of biogeochemical provinces and its development. Geochemistry International. 2017;55(10):872–886. doi: 10.7868/S0016752517100041 EDN: ZHNBZX
- Korobova EM, Baranchukova VS, Kolmykova LI. Theoretical and methodological approaches to the analysis of spatial patterns of distribution of endemic diseases of geochemical nature. Geohimiâ. 2023;68(10):1073–1086. doi: 10.31857/S0016752523100060 EDN: NLACVQ
- Avtsyn AP, Zhavoronkov AA. Microelementoses diseases caused by deficiency, excess and imbalance of microelements in the body of humans and animals. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 1994;(2):53-57. (In Russ.).
- Shatova OP, Zuikov SA, Zabolotneva AA, et al. Bioelements: role in the development of diseases of civilization. East European Scientific Journal. Medical Sciences. 2021;4(11(75)):45-58. doi: 10.31618/ESSA.2782-1994.2021.4.75.175 EDN: NQTDAN
- Borisov VV. Role of trace mineral deficiencies in decreased fertility and infertility (Clinical Lecture). Clinical review for general practice. 2021;4:64–70. doi: 10.47407/kr2021.2.4.00062 EDN: ICJWRE
- Oberlis D, Harland B, Skalny A. Biological role of macro- and microelements in humans and animals. St. Petersburg: Nauka, 2008. (In Russ.) ISBN: 978-5-02-025305-6 EDN: QKRRQX
- Agadzhanyan NA, Skalny AV, Detkov VYu. Human elemental portrait: Morbidity, demography and problem of nation health management. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2013;20(11):3-12. doi: 10.17816/humeco17282 EDN: RKRTQZ
- Nadtochiy LA, Smirnova SV, Bronnikova EP. The depopulation of indigenous and small-numbered peoples and problem of preserving of ethnic groups of the North-East of Russia. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2015;23(3):3–11. doi: 10.17816/humeco17087 EDN: TMITDX
- Talykova LV, Megorsky VV, Bykov VR. Mortality trends in indigenous working-age population of the Koryak Okrug and the population of the arctic monotown in 1968-1991. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2022;29(9):617-629. doi: 10.17816/humeco108281 EDN: OVCJYY
- Mulik AB, Nazarov NO, Ulesikova V, et al. Elemental status and psychological predisposition of the Russian population to deviant behavior Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2023;30(6):457–467.doi: 10.17816/humeco409629 EDN: JBIHHI
- Bykov VA, Skalny AV. Bioelementology as an integrative direction in life science. Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. 2011;(6);4-8. EDN: PVBUGV
- Shafran LM. Medical elementology: new direction, new paradigm. Trace elements in medicine. 2019;20(4):63-68. EDN: YWOVKH
- Chereshnev VA, Poznyakovskiy VM. The food supply security problem: national and international aspects. Food industry. 2016;(1(1)):6-14. EDN: YHWOQL
- Skalny AV. Evaluation and correction of elemental status of the population as a perspective direction of national healthcare and environmental monitoring. Trace elements in medicine. 2018;19(1):5–13. doi: 10.19112/2413-6174-2018-19-1-5-13 EDN: XODDRR
- Aftanas LI, Bonitenko EYu, Varenik VI, et al. Elemental status of the population of Russia. Skalny AV, Kiselev MF, editors. St. Petersburg: Medkniga "ELBI-SPb", 2010-2014. ISBN: 978-5-91322-017-2 EDN: QKTYJB
- Gorbachev AL. Efimova АV, Lugovaya ЕА, Bulban АP. Features of element's status of inhabitants of different natural-geographic territories of the Magadan region. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2003;(6):12–16.EDN: HRTKUV
- Gorbachev AL, Dobrodeeva LK, Tedder YuR, Shatsova EN. Biogeochemical description of northern regions. microelement status of Arkhangelsk region population and prediction of endemic diseases development. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2007;(1):4-11.EDN: HVISFZ
- Egorova GА. Element status of grown-up population living in different medical-geographic zones of republic Sakha (Yakutia). Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2007;(1):55-59. EDN: HVISJL
- Vinogradova IA, Varganova DV, Lugovaya EA. Hair macro- and microelement assessment in residents of european north depending on gender and age. Advances in Gerontology. 2021;34(4):572-580. doi: 10.34922/AE.2021.34.4.010 EDN: AGOIZC
- Gorbachev AL, Skalny AV, Lugovaya EA. Some patterns of elemental status of residents of the northern regions of Russia against the background of biogeochemical characteristics of the North. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2008;5A(28):22-25. (In Russ.)
- Gorbachev AL. The role of the chemical composition of drinking water in the formation of human elemental status. Trace elements in medicine. 2006;7(2):11-24. (In Russ.) EDN: NPTFBL
- Vinogradova IA, Varganova DV, Matveeva YuP, et al. Prevalence of calcium deficiency in the hair in people at different age and sex living in the European North. Advances in Gerontology. 2023;36(1):109-114. doi: 10.34922/AE.2023.36.1.014 EDN: HLEKVW
- Nikanov AN, Gudkov AB, Popova ON, et al. Blood mineral composition in residents of the arctic region with low water mineralization rates in centralized tap water supply systems. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2021;(3):42–47. doi: 10.33396/1728-0869-2021-3-42-47 EDN: CRGVJU
- Kirillova AV, Dorshakova NV, Dudanov IP. On the pathogenesis of hypertension and ischemic heart disease with a deficiency of calcium and magnesium intake in the North. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2006;(1):3–8.EDN: HRTCMR
- Yahyaev MA, Salikhov ShK, Abdulkadyrova SO, et al. Contents of magnesium in the environment and population morbidity rate of arterial hypertension. Hygiene and Sanitation. 2019;98(5):494-497. doi: 10.18821/0016-9900-2019-98-5-494-497 EDN: DNTINT
- Chashchin VP, Gudkov AB, Popova ON, et al. Description of main health risk factors for population living in the territories of active economic exploitaition of natural resources in the Arctic. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2014;21(1):3–12. doi: 10.17816/humeco17269 EDN: RYIEQP
- Kozyreva TV, Tkachenko EYa. Afferent and efferent links of the thermoregulation system during the organism’s adaptation to cold. In: Essays on ecological physiology. Trufakin VA, Shoshenko KA, editors. Novosibirsk: SB RAMS;1999. P.61-72. (In Russ.) EDN: UKXBTL
- Kodentsova VM, Pogozheva AV, Gromova OA, Shikh EV. Vitamin-mineral supplements in nutrition of adults. Voprosy Pitania. 2015;84(6):41-150.EDN: VEAEHX
- Marachev AG, Zhavoronkov AA. Acclimatization iron deficiency. Fiziologiâ čeloveka. 1987;13(4):640–646. (In Russ.)
- Nikanov AN, Dorofeev VM, Megorsky VV, Zhirov VK, editors. Ecological aspects of accumulation of mineral elements in the body of the population living in areas of intensive industrial activity in the European part of the Arctic zone of Russia: monograph. Apatity: Publishing House of KSC RAS; 2020. (In Russ.) ISBN: 978-5-91137-440-2 doi: 10.37614/978.5.91137.440.2 EDN: USESQL
- Bogoslovskaya LS, Slugin IV, Zagrebin IA, Krupnik II. Fundamentals of marine mammal hunting: scientific and methodological manual. Moscow-Anadyr: Institute of Heritage; 2007. (In Russ.) ISBN: 978-5-86443-142-9 EDN: QKZECR
- Dudarev A, Odland JO. Human health in connection with arctic pollution-results and perspectives of international studies under the aegis of AMAP. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2017;(9):3-14. doi: 10.33396/1728-0869-2017-9-3-14 EDN: ZFVNJL
- Kovshov AA, Novikova YuA, Fedorov VN, Tikhonova NA. Diseases risk assessment associated with the quality of drinking water in the urban districts of Russian arctic. Journal of Ural Medical Academic Science. 2019;16(2):215-222. doi: 10.22138/2500-0918-2019-16-2-215-222 EDN: QBLRBZ
- Zimovec AA. Some features of heavy metals distribution in soils of the north European territory of Russia (on example Arkhangelsk area's soils). Anthropogenic Transformation of Nature. 2010;(1):303–309.EDN: WKXDQZ
- Rigét F, Bignert A, Braune B, et al. Temporal trends of persistent organic pollutants in Arctic marine and freshwater biota. Sci. Total Environ. 2019;649:99-110. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.268.
- Avtsyn AP, Zhavoronkov AA, Marachev AG, Milovanov AP. Human pathology in the North. M, 1985. (In Russ.)
- Korchin VI, Korchina TYa, Ternikova EM, et al. Influence of climatic and geographical factors of the Yamalo-Nenets autonomous okrug on the health of its population (Review). Journal of Medical and Biological Research. 2021;9(1):77–88. doi: 10.37482/2687-1491-Z046 EDN: JFHWCN
- Khan F, Momtaz S, Abdollahi M. The relationship between mercury exposure and epigenetic alterations regarding human health, risk assessment and diagnostic strategies. J.Trace Elem. Med. Biol. 2019;(52):37-47. doi: 10.1016/j.jtemb.2018.11.006
- World Health Organization [Internet]. Mercury and health (Fact sheet No. 361). Geneva: WHO; 2013. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/
- Filimonenko E, Vatutin G, Zherebyatyeva N, et al. Wildfire effects on mercury fate in soils of North-Western Siberia. Sci. Total Environ. 2024;951:175572. doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.175572 EDN: PTGBOD
- Nemova NN, Lysenko LA, Meshcheryakova OV, Komov VT. Mercury in fish: biochemical indication. «Biosphera». 2014;6(2):176-186. (In Russ.) doi: 10.24855/biosfera.v6i2.215 EDN: SHJZCX
- Sheehan MC, Burke TA, Navas-Acien A, et al. Global methylmercury exposure from seafood consumption and risk of developmental neurotoxicity: a systematic review. Bull. W.H.O. 2014;92(4):254-269F. doi: 10.2471/BLT.12.116152 EDN: WOPURB
- Bechshoft T, Derocher AE, Richardson E, et al. Mercury and cortisol in Western Hudson Bay polar bear hair. Ecotoxicology. 2015;24(6):1315–1321. doi: 10.1007/s10646-015-1506-9 EDN: BZXFZN
- Bjørklund G, Chirumbolo S, Dadar M, et al. Mercury exposure and its effects on fertility and pregnancy outcome. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2019;125(4):317-327. doi: 10.1111/bcpt.13264 EDN: JEXIJQ
- Korchina TYa. Correlation between concentration Hg, Pb and Cd in adult native inhabitant' hair of Khanty-Mansiisk autonomous region and concentration the same chemical elements in native products. RUDN Journal of Ecology and Life Safety. 2008;(4):62-69. EDN: JUCKAN
- Koutsenogii KP, Savchenko TI, Chankina OV, et al. Elemental composition of blood and hair of the native inhabitants of the North of Russia with different biogeochemical environments. Chemistry for Sustainable Development. 2010;18(1):51-61. EDN: KZSKWT
- Gorbachev AL. Mercury as a most important environmental pollutant: the body levels of mercury and other toxic chemical elements in indigenous residents of North-East Russia. Trace elements in medicine. 2016;17(2):3–9. doi: 10.19112/2413-6174-2016-17-2-3-9 EDN: WBERVT
- Rusetskaya NYu, Borodulin VB. Biological activity of organoselenium compounds in heavy metal intoxication. Biochem. Moscow Suppl. Ser. B. 2015;(1):45-57. doi: 10.1134/S1990750815010072 EDN: SEWZQR
- Spiller H.A. Rethinking mercury: the role of selenium in the pathophysiology of mercury toxicity. Clin. Toxicol. 2017;56(5):313–326. doi: 10.1080/15563650.2017.1400555
- Dietz R, Mosbech A, Flora J, Eulaers I. Interactions of climate, socio-economics, and global mercury pollution in the North Water. Ambio. 2018;47(2):281-295. doi: 10.1007/s13280-018-1033-z EDN: DTQVZX
- Zorina DYu, Batsevich VA. The trace element status of indigenous population of arctic regions (the Chukchi and Eskimos) based on analysis of hair. Lomonosov Journal of Anthropology. 2011;(4):105-111. EDN: OKKHKX
- Gorbachev AL, Lygovaya EA. Features of the elemental status of children with autism spectrum disorder. Trace elements in medicine. 2019;20(3):20–30. doi: 10.19112/2413-6174-2019-20-3-20-30 EDN: GYOMVI
- Gudkov АB, Popova ОN, Lukmanova NB. Ecological-physiological characteristic of northern climatic factors. Literature review. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2012;(1):12–17. doi: 10.17816/humeco17513 EDN: OSKLRJ
- Khasnulin VI. Introduction to polar medicine. Novosibirsk: SB RAMS, 1998. (In Russ.) ISBN: 5-900107-10-8 EDN: RWXGVZ
- Kozlov AI, Kozlova MA, Vershubskaya GG, Shilov AB. Health of the indigenous population of the Russian North: on the edge of centuries and cultures: monograph. Belavin AM, editor. Perm: OT i DO, 2013. (In Russ.) ISBN: 978-5-4357-0052-6 EDN: RZYUZX
- Tchantchaeva EA. To the issue of the adequacy of nutrition of Siberian aboriginal population. Literature rewiev. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2010;(3):31–34. EDN: KZVBCF
- Istomin AV, Fedina IN, Shkurikhina SV, Kutakova NS. Nutrition and the north: hygienic problems of the Arctic zone of Russia (Literature review). Hygiene and Sanitation. 2018;97(6):557-563. doi: 10.18821/0016-9900-2018-97-6-557-563 EDN: XVLSPZ
- Nikiforova NA, Karapetyan TA, Dorshakova NV. Feeding habits of the Northerners (Literature Review). Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2018;25(11):20-25. doi: 10.33396/1728-0869-2018-11-20-25 EDN: YNWBUL
- Nikitin YP, Khasnulin VI, Gudkov AB. Performance academy polar medicine and extreme human ecology for 1995-2015: modern problems of northern medicine and efforts of scientists to address them. Meditsina Kyrgyzstana. 2015;1(2):8–14. (In Russ.) EDN: XIFABR
- Kucher AN. Gene-environment interactions as the basis of health formation. Ecological genetics. 2017;15(4):19-32. doi: 10.17816/ecogen15419-32 EDN: VHGUND
- Andronov SV, Lobanov AA, Bichkaeva FA, et al. Traditional nutrition and demography in the arctic zone of Western Siberia. Voprosy Pitaniia. 2020;89(5):69-79. doi: 10.24411/0042-8833-2020-10067 EDN: ULIZLT
- Sobolev N, Aksenov A, Sorokina T, et al. Iodine and bromine in fish consumed by indigenous peoples of the Russian Arctic. Sci. Rep. 2020; 25;10(1):5451. doi: 10.1038/s41598-020-62242-1 EDN: MHPDDB
- Chizhova LA, Khadyko AI. Development of aquaculture in the Northern and arctic territories: problems and solutions (on the example of the Arkhangelsk oblast). Arktika i Sever [Arctic and North] 2023;(53):135-154. doi: 10.37482/issn2221-2698.2023.53.135 EDN: HJQPUV
- Gorbachev AL, Lugovaya EA. Trace element profile typical for aboriginal residents of Russia’s Northeast. The Bulletin of the North-East Scientific Center. 2015;(1):86–94. EDN: TQQNRD
- Pokhilyuk NV, Gorbachev AL. Ethnic aspects of toxic elements in the Russian Northeast. RUDN Journal of Ecology and Life Safety.2022;30(1):58–66. doi: 10.22363/2313-2310-2022-30-1-58-66 EDN: QJPESJ
- Krivoshchekov SG, Okhotnikov SV. Industrial migrations and human health in the North. Novosibirsk: SB RAMS, 2000. (In Russ.) EDN: RFCYXN
- Sevostyanova YeV. Some features of human lipid and carbohydrate metabolism in the North (Literature Review). Bulletin of Siberian Medicine. 2013;12(1):93-100. doi: 10.20538/1682-0363-2013-1- EDN: QABARP
- Stroev YuI, Churilov LP. The heaviest element of life (On the 200th anniversary of the discovery of iodine). «Biosphera». 2012;4(3):313–342. (In Russ.) EDN: PCXGNZ
- Troshina EA. Elimination of iodine deficiency is a concern for the health of the nation. An excursion into the history, scientific aspects and the current state of the legal regulation of the problem in Russia. Problems of Endocrinology. 2022;68(4):4-12. doi: 10.14341/probl13154 EDN: GAKKBM
- Guidance on the monitoring of salt iodization programmes and determination of population iodine status: Russian language version. Clinical and experimental thyroidology. 2018;14(2):100-112. doi: 10.14341/ket9734 EDN: XWQWUH
- Kovalski VV. Geochemical ecology of endemic goiter. Geochemical ecology. Moscow: Nauka, 1974. 214-229. (In Russ.)
- Malov AI, editor. Research and utilization of groundwater in the European North. Proceedings of the International Conference "Ecology of the Northern Territories of Russia: Problems, Forecasts, Situations, Development Paths, Solutions; 2002 June 17–22; Arkhangelsk, Russia. Arkhangelsk: Institute of Environmental Problems of the North; 2002. (In Russ.) ISBN: 5-85879-017-8 EDN: YRCKEC
Дополнительные файлы