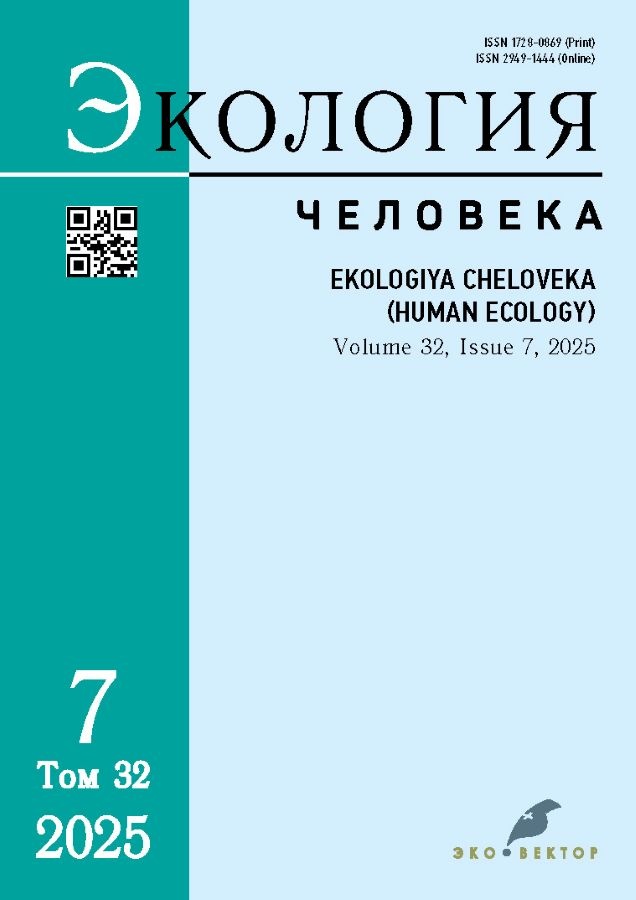Self-Assessment of Exposure Levels to Harmful Occupational Factors at the Workplaces of Miners
- Authors: Zibarev E.V.1, Vostrikova S.M.1, Kravchenko O.K.1, Bessonova A.K.1, Nikonova S.M.2
-
Affiliations:
- Scientific Research Institute of Occupational Health n.a. academician N.F. Izmerov
- All-Russian Research Institute of Labor
- Issue: Vol 32, No 7 (2025)
- Pages: 504-516
- Section: ORIGINAL STUDY ARTICLES
- Submitted: 26.06.2025
- Accepted: 09.08.2025
- Published: 15.09.2025
- URL: https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/685787
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco685787
- EDN: https://elibrary.ru/SUPTRD
- ID: 685787
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: The current methodology of special assessment of working conditions does not fully ensure objective identification of hazardous and/or harmful occupational factors in miners’ workplaces, nor does it adequately reflect their actual exposure levels or the specifics of work activities associated with mining conditions, regional climate, and labor intensity at different technological stages. Questionnaire surveys make it possible to supplement the understanding of working conditions, to use these data for identifying hazardous and/or harmful occupational factors as part of workplace assessment, and to assess the individual workers' appraisals of the conditions in which they perform their regular work.
AIM: To evaluate the objectivity of identifying hazardous and/or harmful occupational factors and their levels at miners’ workplaces, and to determine specific features of work and rest regimes and medical care based on questionnaire survey data.
METHODS: A cross-sectional study was conducted with a one-time assessment of the prevalence of occupational factors and work environment characteristics using a questionnaire survey of 257 miners from a coal mine in the Kemerovo region. A database was compiled and analyzed, including information on potential exposure levels to hazardous and/or harmful occupational factors at the workplace, tools and equipment used, work and rest regimes, sanitary and welfare conditions, and workers’ health status. The significance of individual hazardous and/or harmful occupational factors in miners’ work was determined, and their ranking and impact on health were evaluated.
RESULTS: By degree of severity and impact on miners’ health, hazardous and/or harmful occupational factors were ranked as follows: aerosols with predominantly fibrogenic effect (3.4 points), workload severity (3.4), noise (3.3), microclimate (3.1), local vibration (2.9), work intensity (2.9), whole-body vibration (2.6), chemical exposure (2.2). The most unfavorable working conditions were observed in shaft sinkers and longwall miners. Overall, 73.1% of miners reported that their work negatively affected their health; among them, 23% rated their health as satisfactory, and 20% as poor or very poor.
CONCLUSION: The findings are of scientific and practical interest, as they provide current data on harmful occupational factors actually identified in miners’ workplaces by different professional groups. The study substantiates the importance of personalized general hygienic and biomedical preventive measures to mitigate modifiable occupational risks and to guide priority areas for preventive interventions.
Full Text
Обоснование
Условия труда работников, занятых подземной добычей угля на разных шахтах, отличаются большим разнообразием производственных факторов, обусловленных горно-геологическими особенностями условий добычи [1–3], организацией техпроцесса [2, 4, 5], климатическим регионом [2, 6]. Это может затруднять корректную идентификацию вредных и (или) опасных производственных факторов (ВОПФ) на рабочих местах и оценку степени их выраженности. Так, например, труд работников, относящихся к одним и тем же профессиональным группам, в наклонных или глубоких шахтах по сравнению с условиями труда работающих в пологих шахтах неглубокого заложения может отличаться более высокой тяжестью и напряжённостью труда, связанного с увеличением продолжительности переходов и доставки к рабочему месту, количеством подъёмов и спусков, неудобной рабочей позой, повышенной опасностью обрушений пород и т.п. [2]. В этих случаях мнение работников о значимости отдельных ВОПФ в условиях труда может представлять несомненную ценность для построения программы исследований при проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) или производственного контроля и учёта всех рабочих операций, отличающихся наиболее выраженными производственными воздействиями. Значимость корректной оценки условий труда связана не только с необходимостью разработки профилактических мероприятий в случае выявления отклонений уровней ВОПФ от допустимых значений, но и с прогнозированием вероятных нарушений здоровья у работников в зависимости от специфики факторного воздействия, их источников и локализации [5–9]. Такая подробная информация часто бывает необходима при решении экспертных вопросов о профессиональной обусловленности нарушений здоровья у горняков, работающих в подземных условиях.
Известно, что профессии шахтёров относят к числу наиболее тяжёлых, вредных и опасных, в которых труд характеризуется комплексным воздействием практически всех известных производственных факторов значительной степени выраженности. Это определяет более высокие риски развития не только профессиональной патологии, но и хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смерти, по сравнению с работающими других профессиональных групп и мужского населения в целом [10–12]. В то же время результаты полноценной гигиенической оценки условий труда на рабочих местах шахтёров, основанные на результатах собственных измерений авторов непосредственно в подземных условиях добычи, в забоях, в научной литературе встречаются редко [13], в основном опираются на результаты СОУТ [14, 15], санитарно-гигиенические характеристики [3]. Этот факт связан с труднодоступностью таких исследований и ограничениями по технике безопасности. Анкетирование о состоянии условий труда на рабочем месте в дополнение к результатам СОУТ позволяет получить более полную картину воздействия ВОПФ на шахтёров в процессе работы, однако в научной литературе при анкетировании основное внимание уделяется социально-бытовым аспектам жизни работников [1, 16] и крайне редко состоянию условий труда [17]. В работе J. Strzemecka и соавт. [17] отмечено, что 80% опрошенных шахтёров считают, что риски для их здоровья создают шум и запылённость на рабочем месте, более 50% — микроклимат (влажность и температура воздуха), 50% — вибрация и плохое освещение. Представленные в статье данные недостаточно информативны. В связи с этим настоящее исследование с изучением мнения работников различных профессиональных групп шахтёров об условиях труда во взаимосвязи с состоянием здоровья представляется актуальным как в научном, так и в практическом плане.
Цель исследования. Оценить объективность идентификации ВОПФ и их уровни на рабочем месте шахтёров, установить особенности труда и отдыха, а также медицинского обеспечения по данным анкетного опроса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено поперечное исследование с одномоментной оценкой распространённости ВОПФ на рабочих местах шахтёров, их уровней, применяемом инструменте и оборудовании, режимов труда и отдыха, санитарно-бытовых условиях и состоянии здоровья по данным анкетного опроса 257 работников одной из шахт Кемеровской области. Для реализации цели исследования была разработана анкета, включающая 54 вопроса, сгруппированных по пяти блокам: общая информация с указанием пола, возраста, образования, стажа работы, наличия категории (вопросы 1–5); режимы труда и отдыха (вопросы 6–20); санитарно-бытовые условия (вопросы 21–24); вредные и опасные производственные факторы (вопросы 24–46); состояние здоровья (вопросы 47–54). Формулирование вопросов анкеты основывалось на требованиях к идентификации и оценке ВОПФ1, правил по охране труда2 и организации режимов труда и отдыха шахтеров3. На этапе интерпретации данных пользовались ключами для подсчёта баллов при оценке степени выраженности влияния того или иного ВОПФ.
Разработанная анкета соответствовала критериям валидности содержания, внешней валидности, внутренней согласованности.
Оценку содержательной валидности анкеты осуществляли методом экспертных оценок. В качестве экспертов выступили канд. мед. наук А.А. Федорук, заведующий отделом медицины труда ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» Роспотребнадзора, и канд. техн. наук И.В. Цирин, советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, председатель технического комитета по стандартизации 251 «Безопасность труда» (30.01.2024). В вопросы из блока «Вредные и опасные производственные факторы» были внесены уточнения по шкалам оценки выраженности ВОПФ. После этого экспертами был достигнут консенсус по всем пунктам анкеты, её повторная переработка не потребовалась.
Внешняя валидность (пилотное тестирование) анкеты проверяли путём интервьюирования 59 специалистов по охране труда Федерации независимых профсоюзов России и Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности с 5 по 30 февраля 2024 г. Средний возраст респондентов составлял 39,8±0,7 года. Задачей данного этапа являлась оценка понимания вопросов анкеты, выявление неполных вариантов ответов и переформулирование вопросов. По результатам пилотного тестирования устранили ошибки и внесли необходимые правки в формулировки пяти вопросов анкеты.
Обоснование надёжности/устойчивости результатов анкетирования во времени не проводили, поскольку анкета предполагает единоразовую оценку результатов тестирования.
Внутренняя согласованность была рассчитана и установлена с помощью коэффициента α-Кронбаха для каждого блока анкеты. Показатель α-Кронбаха считался приемлемым при значении выше 0,7, что соответствует хорошему уровню внутреннего постоянства. Значение критерия надёжности α-Кронбаха для вопросов анкеты варьировало от 0,564 до 0,899. Несмотря на низкие показатели α-Кронбаха в блоке «Состояние здоровья», общий коэффициент α-Кронбаха для всей анкеты равнялся 0,879.
Таким образом, анкета продемонстрировала высокую степень надёжности и внутренней согласованности. Данная анкета может быть использована для оценки условий труда у шахтёров перед проведением СОУТ как надежный инструмент идентификации ВОПФ и предварительной оценки класса условий труда.
Анкету работники заполняли самостоятельно перед периодическим медицинским осмотром. Исследование проводили анонимно с последующим составлением базы данных и анализом распределения ответов респондентов по предложенным вариантам. Участники исследования подписывали информированное согласие.
Сформирована база данных, включающая сведения о потенциальных уровнях воздействия при контакте с ВОПФ на рабочем месте, применяемом инструменте и оборудовании, режимах труда и отдыха, санитарно-бытовых условиях и состоянии здоровья работников.
Исследование проведено по госзаданию с 2023 по 2025 г. с соблюдением этических принципов проведения медицинских исследований с участием человека согласно Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта» с поправками 2013 г. Исследование одобрено на заседании локального этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол № 5 от 02.08.2023).
Полученные материалы анализировали в программном обеспечении Microsoft Excel. Проверку распределения результатов анкетирования проводили при помощи критерия Шапиро–Уилка. Данные имели нормальное распределение. Для описания нормально распределённых данных рассчитывали среднее значение и стандартное отклонение (M±SD). При сравнении оценок условий труда по результатам анкетирования с классами СОУТ внутри профессиональных групп использовали двухвыборочный критерий Вилкоксона. Провели логистический регрессионный анализ, оценку корреляционных зависимостей и рассчитали коэффициент корреляции Спирмена. Статистически значимыми считали результаты, полученные при p ≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В профессиональной структуре анкетируемых 26% занимали электрослесари подземные (ЭСП), 15% — горнорабочие подземные (ГРП), 13% — проходчики (ПР), 11% — горнорабочие очистного забоя (ГРОЗ), 7% — машинисты горновыемочных машин, 6% — помощники начальника участка и начальник участка, 5% — машинисты буровой установки, 4% — горномонтажники подземные. Доля первых четырёх профессиональных групп составляла 65% от всех опрошенных. Работники иных профессий (взрывник, механик, маркшейдер, горный мастер и др.) были включены в группу «прочие», доля которой в числе опрошенных составляла 12%. Анкетированием охватили большинство ведущих профессиональных групп шахтёров.
Средний возраст работников составил 43,0±0,6 года, общий стаж работы — 19,9±0,6 года, стаж работы в данной профессии — 11,2±0,5 года. Средний возраст в группе ЭСП — 42,8±1,2 года, ГРП — 38,3±1,4 года, ПР — 43,8±1,3 года, ГРОЗ — 42±1,2 года. Минимальный возраст — 21 год, максимальный — 66 лет.
Основная доля работников, занятых подземной добычей угля, относится к наиболее трудоспособным возрастным группам — до 50 лет (75,6%). При этом значительной является группа молодых работников до 30 лет (8,4%). Обращает на себя внимание относительно большой удельный вес работников предпенсионного (от 50 до 59 лет — 21,6%) и старше трудоспособного возраста — (от 60 до 69 лет — 2,8%). В табл. 1 приведён возрастной состав опрошенных по профессиональным группам.
Таблица 1. Распределение опрошенных по профессиональным группам и возрасту
Table 1. Distribution of respondents by occupational group and age
Профгруппа | Количество работников в профгруппе | Возрастные группы, % | |||||
20–29 лет | 30–39 лет | 40–49 лет | 50–59 лет | 60–69 лет | н/д | ||
ЭСП | 68 | 10,3 | 27,9 | 35,3 | 22,1 | 4,4 | 0,0 |
ГРП | 38 | 18,4 | 31,6 | 34,2 | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
ПР | 34 | 5,9 | 20,6 | 44,1 | 23,5 | 0,0 | 5,9 |
ГРОЗ | 29 | 3,4 | 34,5 | 48,3 | 10,3 | 0,0 | 3,4 |
Примечание. ЭСП — электрослесари подземные; ГРП — горнорабочие подземные; ПР — проходчики; ГРОЗ — горнорабочие очистного забоя; н/д — возраст в анкете не был указан.
Большинство (89%) опрошенных имели сменный график работы — 3/3 по 8 ч. Соответственно, количество смен варьировало от трёх до четырёх в неделю. Подобный график предполагает, что работник может выходить на смену как в дневное, так и в ночное время для обеспечения непрерывного производственного процесса.
Дорога до места работы занимала от 30 мин до 1 ч у 56% опрошенных, менее 30 мин — у 20%, от 1 до 1,5 ч — у 19%, более 1,5 ч — у 5%. Таким образом, 1/4 опрошенных затрачивают на дорогу более 1 ч, что является фактором риска развития утомления, в том числе ещё до начала рабочей смены.
Среднее время спуска в шахту менялось в зависимости от глубины рабочего участка, а также способа передвижения. При этом спуск занимал в среднем 21,6±0,7 мин, подъём на поверхность — 24,2±0,9 мин. Средняя длительность передвижения до рабочего места после спуска составляет 17,8±9,8 мин (и столько же обратно). Важно отметить, что рассматриваемая шахта — наклонная, наклонные стволы оборудованы конвейерами, подвесной монорельсовой дорогой для доставки оборудования, материалов и перевозки людей. В вопросе со множественным выбором 61% опрошенных указали, что иногда используют дизелевоз для перемещения к рабочему месту, 40% работников также проходили пешком менее 1 км на пути к рабочему месту, а 41% — преодолевали пешком расстояние более 1 км, хотя, согласно требованиям Ростехнадзора, при расстоянии до рабочей зоны более 1 км для перевозки людей необходимо использовать специализированные транспортные средства4.
Анализ результатов опроса показал, что среднее количество перерывов составляет 1,8, их средняя продолжительность — 18,4 мин за 8-часовую смену; 20% ответивших на вопрос (n=40) указали, что им недостаточно времени на перерывы в течение рабочей смены. Среди них 7,5% респондентов отметили, что обычно не имели перерывов в течение рабочей смены, 7% — имели 1–2 перерыва, суммарная продолжительность которых не превышала 20 мин, 3% — не ответили на вопросы, касающиеся количества и продолжительности перерывов, 2,5% опрошенных указали, что имели различное количество перерывов, суммарная продолжительность которых составляла 30 мин и более.
Работникам было предложено оценить по 5-балльной шкале выраженность воздействующих ВОПФ, где 1 — «фактор на меня совсем не воздействует», 5 — «фактор воздействует на меня чрезвычайно сильно». Результаты расчёта средних значений баллов для каждого фактора по четырём основным профессиональным группам (ЭСП, ГРП, ГРОЗ, ПР) представлены на рис. 1.
Рис. 1. Выраженность вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте по оценкам работников различных профессиональных групп: ЭСП — электрослесари подземные; ГРП — горнорабочие подземные; ПР — проходчики; ГРОЗ — горнорабочие очистного забоя; АПФД — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.
Также работникам были заданы уточняющие открытые вопросы, касающиеся источников наиболее сильно воздействующих факторов — шума, вибрации, тяжести труда, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД; запылённости). Ответы респондентов позволяют выявить основные источники ВОПФ.
Так, 177 респондентов указали источники наиболее сильного шума. Работники отнесли к наиболее шумным известные источники: бурильное оборудование/бурение (23%) и работу ленточных и скребковых конвейеров, перемещающих горную массу (17%). Далее следовали ответы, включающие шахтные вентиляторы (13%) и прочие неуточнённые машины и механизмы (12%). Значительное количество упоминаний (10%) получила работа проходческого комбайна и компрессоров (8%), применяемых для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов. Отдельное упоминание с меньшими долями ответов получили отбойные молотки и перфораторы (7%), электродвигатели (5%), насосные установки (3%), дизелевоз (2%).
На вопрос об источниках вибрации ответили 107 респондентов. Наиболее часто в ответах упоминался отбойный молоток (36%), а также станок буровой ручной и процесс бурения (34%). Доля категории «прочие пневмоинструменты» (перфораторы, гайковерты, анкероустановщики и др.) составила 10%. Наименьшее количество упоминаний получило прочее горно-шахтное оборудование (9%), ленточный конвейер (5%), дизелевоз (4%) и рабочие инструменты (2%).
Наибольшей запылённостью, по мнению 137 работников, характеризуется процесс добычи угля в забое (43%) и осланцевание (35%), которое выполняется с использованием специальных машин (осланцевателей) и установок достижения необходимого уровня пылевзрывозащиты за счёт смешивания инертной пыли с угольной. Остальная доля ответов была разделена между процессом бурения (15%), работой конвейера (4%) и прочими вариантами (3%).
Также работникам было предложено оценить способность к свободному дыханию вне рабочих процессов, но при нахождении в шахте. Большинство (54%) опрошенных выбрали вариант «можно дышать спокойно без средств индивидуальной защиты органов дыхания», 30% работников указали, что «при дыхании остаётся осадок во рту и в носу», 16% отметили, что «дышать возможно только в средствах индивидуальной защиты».
Наиболее физически тяжёлые операции отметили 125 участников опроса. Чаще всего они упоминали перенос/доставку грузов внутри шахты (45%). Указанные грузы, помимо неуточнённого «горно-шахтного оборудования», включали инертную пыль (сланец) в упаковках массой по 15 кг, рудничные стойки (лесоматериалы), металлические цепи, кабели, крупногабаритную аппаратуру и прочее. На втором месте по частоте встречаемости упоминался процесс бурения и работа с ручными инструментами (19%), в том числе с отбойными молотками, анкероустановщиками, ручными буровыми станками. Монтаж и установка горно-шахтного оборудования (16%) включали рабочие операции по замене двигателей и приводов, монтаж призабойных стоек, кабельных сетей, скребкового конвейера, рештаков, газового сепаратора. На подъём тяжёлых грузов как вручную, так и с использованием захватов «скрепок», талей, рычажных лебедок («тягалок») приходилось 13% ответов; на обслуживание конвейерной ленты и ходьбу — 5 и 2% соответственно.
При рассмотрении субъективной оценки продолжительности выполнения тяжёлой работы в течение смены по профессиональным группам ЭСП, ГРП, ГРОЗ и ПР установлено, что наибольшей тяжестью характеризовалась работа ГРОЗ и ПР, наименьшей среди выбранных профессий — ЭСП. Результаты опроса приведены на рис. 2.
Рис. 2. Субъективная оценка продолжительности выполнения тяжёлой работы в течение смены работниками разных профессиональных групп: ЭСП — электрослесари подземные; ГРП — горнорабочие подземные; ГРОЗ — горнорабочие очистного забоя; ПР — проходчики.
Что касается субъективного восприятия степени тяжести трудового процесса работниками этих профессий по балльной шкале, в которой 1 — «физическая нагрузка на работе незначительная», а 5 — «нагрузка чрезвычайно тяжёлая», наибольший средний балл был выявлен у ГРОЗ и ПР — 4,2 и 3,8 балла соответственно. Также работниками этих профессий были выставлены наибольшие баллы при оценке травмоопасности работ — 4,0 и 3,9 баллов соответственно по шкале, в которой 1 балл — «получить травму практически невозможно», 5 баллов — «незначительная неосторожность может привести к травме». Более того, среди ГРОЗ и ПР отмечаются наибольшие значения утомления, связанного с работой. Так, по шкале, где 1 балл — «работа не вызывает утомления», а 5 баллов — «большая часть утомления связана с работой», профессиональным группам соответствуют следующие баллы: ЭСП — 2,8, ГРОЗ — 3,3, ПР — 3,3, ГРП — 3,0.
Далее работниками были выбраны виды физических нагрузок, характерных для рабочего процесса, к числу которых отнесены перемещение грузов и ходьба. Уточняющие вопросы позволили определить среднее значение субъективных оценок максимальной массы поднимаемого и перемещаемого груза, которое составило 37,2±1,8 кг, и среднее расстояние, проходимое работниками в течение смены — 5,6±0,3 км.
Различия этих значений между основными профессиональными группами представлены в табл. 2. В число поднимаемых работниками грузов входят также рабочие инструменты. Их примерный перечень и средняя масса также представлены в табл. 2.
Таблица 2. Средние значения субъективных оценок максимальной массы поднимаемого и перемещаемого груза, массы рабочих инструментов и расстояния, которое проходят работники в течение смены, по профессиональным группам
Table 2. Mean values of subjective self assessments for maximum lifted and transported load, weight of working tools, and distance covered during a shift, by occupational group
Профгруппа | Среднее расстояние, проходимое в течение смены, км | Средняя максимальная масса поднимаемого и перемещаемого груза, кг | Средняя масса рабочих инструментов, кг | Примеры инструментов |
ЭСП | 5,2±0,3 | 34,5±4,5 | 9,5±1,0 | Гаечные ключи, отвёртки, индикаторы напряжения, тали, электропускатели, болторезы, плоскогубцы, пассатижи |
ГРОЗ | 5,3±1,0 | 47,8±5,1 | 21,5±3,4 | Отбойные молотки, станки буровые ручные, анкероустановщики, кувалды, лопаты, ручные лебёдки (тягалки), домкраты, свёрла электрические ручные, перфораторы |
ПР | 4,9±0,5 | 51,6±4,0 | 29,5±4,4 | Станки буровые ручные, анкероустановщики, отбойные молотки, кувалды, кайла |
ГРП | 5,6±0,6 | 38,6±3,5 | 13,3±2,1 | Тали, лебёдки, лопаты, кайла, кувалды, ломы |
Примечание. ЭСП — электрослесари подземные; ГРОЗ — горнорабочие очистного забоя; ПР — проходчики; ГРП — горнорабочие подземные.
В соответствии с табл. 2 наибольшее среднее расстояние, проходимое в течение смены, свойственно ГРП, однако этот показатель незначительно различается в рамках четырёх рассматриваемых профессиональных групп. Наибольшей средней максимальной массой поднимаемого и перемещаемого груза, а также наибольшей средней массой рабочих инструментов характеризуется трудовая деятельность ПР и ГРОЗ, что объясняется использованием тяжёлых пневматических инструментов.
Также работникам был задан вопрос, в котором необходимо выбрать одну или несколько характеристик параметров микроклимата (множественный выбор), основываясь на своих ощущениях. Из предложенных вариантов ответов большие доли пришлись на оценки «холодно» —59% (для сравнения «жарко» — 28%), «есть сквозняки» — 72% («душно» — 12%) и «слишком влажно» — 32% («слишком сухо» — 2%). Назвали комфортным микроклимат только 13% опрошенных.
При оценке состояния своего здоровья с использованием 5-балльной шкалы, где 1 — «отличное», а 5 — «очень тяжёлое», большинство опрошенных (57%) указали, что оно отличное (1 балл) и очень хорошее (2 балла), 23% опрошенных — удовлетворительное (3 балла). Однако значимая часть опрошенных (20%) оценили состояние здоровья как тяжёлое (4 балла) и очень тяжёлое (5 баллов), что может свидетельствовать о высокой вероятности наличия у них хронических неинфекционных заболеваний, которые могут стать причинами профессиональной непригодности.
Интерес представляет мнение работников, по-разному оценивших собственное здоровье, о том, ухудшает ли работа состояние здоровья (рис. 3).
Рис. 3. Отношение работников к тому, ухудшает ли работа состояние их здоровья, в зависимости от оценки состояния собственного здоровья.
На рис. 3 в группах вариантов 1–4 при ухудшающейся оценке своего здоровья возможно проследить увеличение доли работников, утверждающих, что работа негативно влияет или скорее влияет на состояние здоровья (от 58 до 88%). Однако в группе 5 (оценка здоровья — «очень тяжёлое») 35% работников считают, что работа не ухудшает состояние здоровья. Это может быть обусловлено наличием у опрошенных различных по тяжести форм хронических и/или наследственных заболеваний, не выявленных до начала трудовой деятельности или не являющихся противопоказаниями для продолжения работ.
Опрошенным также были заданы вопросы, касающиеся качества медосмотров и сокрытия ими информации при прохождении медосмотра. Было установлено, что по 5-балльной шкале, в которой 1 — «осмотр представляет собой строгую проверку, заключение точно описывает состояние моего здоровья», а 5 — «осмотры проводятся для галочки, заключение не соответствует состоянию моего здоровья», средние значения ответов составили 2,2±0,1 и 2,1±0,1 баллов для периодических и предсменных медосмотров соответственно. Эти цифры показывают, что медосмотры проводятся на достаточно высоком уровне, поскольку оценка в 2 балла соответствует ответу «осмотры проводятся скорее строго». Кроме того, 7,8 и 10,1% работников указали, что им приходилось скрывать информацию о состоянии своего здоровья во время периодических и предсменных медицинских осмотров, что свидетельствует о необходимости обязательного использования объективных методов медицинского контроля для подтверждения текущего физического состояния работника.
Статистический анализ данных о состоянии здоровья работников показал слабую, но значимую положительную связь между возрастом и баллом самооценки здоровья (коэффициент Спирмена — 0,157; p=0,016), что означает следующее: чем старше человек, тем выше вероятность, что он оценит своё здоровье хуже. Модель порядковой логистической регрессии подтвердила это: с каждым годом шанс того, что человек будет считать своё здоровье хуже, вырастает примерно на 3,4% (p=0,0336). Также статистический анализ показал слабую, но значимую положительную связь между баллом самооценки здоровья и баллом самооценки влияния работы на здоровье (коэффициент Спирмена — 0,177; p=0,006), то есть, чем хуже человек оценивает свое здоровье, тем выше вероятность, что он выше оценит влияние работы на здоровье.
ОБСУЖДЕНИЕ
Треть опрошенных относится к наиболее молодым и старшим возрастным группам, то есть к группам повышенного риска развития заболеваний и возможности травматизма (см. табл. 1). Во всех четырёх профессиональных группах возраст большей доли работников составляет от 40 до 49 лет. Работники возраста 60–69 лет присутствуют только в профгруппе ЭСП, что может быть связано с меньшей тяжестью труда и лучшими показателями здоровья в этой группе по сравнению с работниками других групп. Эти же причины могут обусловливать и незначительную долю работников групп ГРП и ГРОЗ в возрасте 50–59 лет. Данные о возрастной структуре работающих в различных профессиональных группах представляют важную информацию, которая должна учитываться при разработке программ укрепления здоровья для мало- и высокостажированных работников.
Один из спусков в шахту, в котором принимали участие интервьюеры, осуществлялся по конвейерному бремсбергу под углом 28о, длина участка — около 500 м. Спуск представлял собой деревянный трап, без освещения (кроме света налобного фонарика). Свет имелся только на поворотных узлах, по одной лампе. Из-за высокой влажности на трапе было скользко, поверхности были засыпаны инертным порошком для исключения образования взрывоопасной смеси. Далее осуществлялся проход через несколько участков, характеризующихся различными углами наклона (спуском до 22о и подъёмом от 7 до 14о), общая протяжённость которых до выемочного участка составляла не менее 800 м.
Как правило, на дизелевозе до рабочего участка перемещались шахтеры основных рабочих профессий, таких как ПР и ГРОЗ, а, например, работники профгруппы ЭСП передвигались пешком.
Несмотря на то что перемещение на дизелевозе экономит силы работников и снижает их общий уровень утомления за смену, такая поездка характеризуется воздействием значительных уровней шума и вибрации, а также связана с вдыханием шахтёрами продуктов неполного сгорания дизельного топлива [5]. Таким образом, передвижение до рабочего места внутри шахты сопровождается дополнительным воздействием вредных факторов на работников: при перемещении пешком — тяжести трудового процесса, при использовании дизелевоза — производственного шума, вибрации, химических веществ.
Учитывая невозможность пополнить запас воды в шахте, работники в среднем берут с собой 1,22±0,44 л воды, что является недостаточным и может приводить к обезвоживанию при значительных физических нагрузках и высокой температуре окружающей среды. Эта тема нуждается в дополнительном изучении.
Как следует из полученных данных о выраженности ВОПФ на рабочем месте по оценкам работников различных профессиональных групп (см. рис. 1), самая высокая оценка установлена в профессиональных группах ПР и ГРОЗ, причём ведущие производственные факторы возможно ранжировать в порядке уменьшения среднего балла (среди выбранных четырёх профессиональных групп) следующим образом: АПФД (3,4 балла), тяжесть трудового процесса (3,4 балла), шум (3,3 балла), микроклимат (3,1 балла), вибрация локальная (2,9 балла), напряжённость (2,9 балла), общая вибрация (2,6 балла), химический фактор (2,2 балла).
Полученные данные частично согласуются с результатами СОУТ на рабочих местах основных профессиональных групп шахтёров, занятых подземной добычей угля, анализ которых проведён в статье И.В. Бухтиярова и соавт. [10]. Согласно данным этого источника, к числу профессий наиболее высокого профессионального риска относят ПР и ГРОЗ, ведущими производственными факторами являются тяжесть трудового процесса, шум и АПФД.
Данные опроса были также сопоставлены с информацией о классах условий труда (КУТ), установленных на рабочих местах работников исследуемой шахты Кемеровской области по результатам СОУТ. Для проведения сравнения КУТ были приведены к соответствующей балльной шкале (балл СОУТ): «фактор не идентифицирован» — 1 балл, установлен КУТ 2 — 2 балла, КУТ 3.1 — 3 балла, КУТ 3.2 — 3,5 балла, КУТ 3.3 — 4 балла, КУТ 3.4 — 4,5 балла, КУТ 4 — 5 баллов.
Результаты сопоставления приведены в табл. 3 и 4. Факторы, для которых КУТ по результатам СОУТ и субъективные оценки работников статистически значимо различаются (p <0,05), выделены серым. Факторы, для которых значение p-критерия было незначительно отклонённым от 0,05, выделены курсивом.
В соответствии с табл. 3, ГРОЗ оценили воздействие химического фактора выше, чем СОУТ (КУТ 3.1 вместо КУТ 2). ЭСП оценили воздействие АПФД выше, чем СОУТ (КУТ 3.1 вместо КУТ 2). Пограничное значение статистической значимости (р=0,047) указывает на то, что ПР могут оценивать воздействие АПФД ниже, чем СОУТ (КУТ 3.2 вместо КУТ 3.3). Субъективные оценки воздействия шума для всех групп работников совпадают с результатами, полученными в рамках СОУТ. Фактор общей вибрации не был идентифицирован в рамках СОУТ, так как на рабочих местах работников выбранных профессиональных групп отсутствовало производственное оборудование, являющееся источником общей вибрации. Тем не менее этот фактор был идентифицирован работниками, так как они испытывают на себе его воздействие во время передвижения по шахте на дизелевозе. Особую выраженность общей вибрации отметили ГРОЗ и ПР, для которых передвижение на дизелевозе является основным способом доставки до рабочего места.
В соответствии с табл. 4 ЭСП идентифицировали на рабочих местах локальную вибрацию, причём не отметили воздействие этого фактора как вредное. ПР оценили воздействие локальной вибрации значительно выше, чем СОУТ (КУТ 3.3 вместо КУТ 3.1). Оценки микроклимата в рамках СОУТ в целом совпали с субъективной оценкой работников. ЭСП оценили тяжесть труда ниже, чем СОУТ (КУТ 3.1 вместо КУТ 3.2), что впоследствии было отражено и в других ответах на вопросы. Напряжённость труда оценена всеми профессиональными группами работников выше, чем СОУТ (КУТ 3.1 вместо КУТ 1), что может быть обусловлено ограниченностью показателей напряжённости труда, оцениваемых в рамках СОУТ. О недооценке напряжённости труда при СОУТ шахтёров говорилось в рассматриваемом источнике [10].
Таблица 3. Сравнение выраженности вредных и (или) опасных производственных факторов по данным субъективной оценки работников и результатов специальной оценки условий труда (часть 1)
Table 3. Comparison of the severity of hazardous and/or harmful occupational factors according to workers’ subjective self assessment and results of the special workplace assessment (part 1)
Профгруппа | Химический фактор | АПФД | Шум | Вибрация общая | ||||||||
ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | |
ЭСП | 2,05 | 2 | 0,763 | 3,17 | 2 | <0,001 | 3,05 | 3 | 0,766 | 2,06 | 1 | <0,001 |
ГРОЗ | 2,93 | 2 | 0,001 | 3,64 | 3,5 | 0,576 | 3,58 | 3,5 | 0,733 | 3,27 | 1 | <0,001 |
ПР | 1,96 | 2 | 0,836 | 3,55 | 4 | 0,047 | 3,45 | 3,5 | 0,829 | 3,23 | 1 | <0,001 |
ГРП | 1,97 | 2 | 0,865 | 3,25 | 3 | 0,235 | 3,21 | 3 | 0,344 | 1,97 | 1 | <0,001 |
Примечание. ЭСП — электрослесари подземные; ГРОЗ — горнорабочие очистного забоя; ПР — проходчики; ГРП — горнорабочие подземные; СОУТ — специальная оценка условий труда; АПФД — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; серый фон — факторы, для которых класс условий труда по результатам СОУТ и субъективные оценки работников статистически значимо различаются (p <0,05); курсив — факторы, для которых значение p-критерия было незначительно отклонённым от 0,05.
Таблица 4. Сравнение выраженности вредных и (или) опасных производственных факторов по данным субъективной оценки работников и результатов специальной оценки условий труда (часть 2)
Table 4. Comparison of the severity of hazardous and/or harmful occupational factors according to workers’ subjective self assessment and results of the special workplace assessment (part 2)
Профгруппа | Вибрация локальная | Микроклимат | Тяжесть труда | Напряжённость труда | ||||||||
ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | ср. вз. балл | балл СОУТ | p-value | |
ЭСП | 1,95 | 1 | <0,001 | 2,89 | 3 | 0,466 | 2,91 | 3,5 | <0,001 | 2,62 | 2 | <0,001 |
ГРОЗ | 3,54 | 3 | 0,053 | 3,14 | 3 | 0,602 | 3,54 | 3,5 | 0,899 | 3,19 | 2 | <0,001 |
ПР | 4,00 | 3 | <0,001 | 3,34 | 3 | 0,065 | 3,87 | 3,5 | 0,068 | 3,26 | 2 | <0,001 |
ГРП | 2,00 | 2 | 1 | 2,83 | 3 | 0,418 | 3,33 | 3,5 | 0,462 | 2,66 | 2 | <0,001 |
Примечание. ЭСП — электрослесари подземные; ГРОЗ — горнорабочие очистного забоя; ПР — проходчики; ГРП — горнорабочие подземные; СОУТ — специальная оценка условий труда; серый фон — факторы, для которых класс условий труда по результатам СОУТ и субъективные оценки работников статистически значимо различаются (p <0,05); курсив — факторы, для которых значение p-критерия было незначительно отклонённым от 0,05.
Среди источников шума, которые указаны респондентами, присутствует как основное, так и вспомогательное технологическое оборудование, уровень шума которого может не оцениваться в рамках СОУТ, если трудовая функция работника напрямую не связана с применением этого оборудования.
При интерпретации ответов на вопросы о запылённости также следует учитывать, что ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания существенно затрудняет дыхание, особенно при выполнении тяжёлых физических работ, из-за чего работники часто вынуждены пренебрегать их использованием, нарушая требования техники безопасности. Поэтому применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания может свидетельствовать о крайней степени загрязнённости воздушной среды.
Масса оборудования, указанного работниками при описании наиболее физически тяжёлых операций, может варьировать от нескольких десятков (детали конвейера СР-70) до сотен килограмм (гидравлические призабойные стойки, газовый сепаратор, комплексные распределительные устройства, механизированные крепи). Несмотря на то что шахтёр при выполнении работ мог не переносить вышеперечисленные грузы, сохранялась необходимость толкать и придерживать их, что обусловливало значительные статические нагрузки. Их измерение — предмет будущих исследований.
Полученные результаты в рамках опроса о микроклимате могут свидетельствовать об отклонении температуры и скорости движения воздуха от допустимых значений как в сторону выше допустимого диапазона, так и ниже него. Наличие сквозняков, обусловленное проветриванием выработок нагнетательным способом при помощи мощных вентиляционных установок, повышает степень вредности работ по параметрам микроклимата. Так, при скорости движения воздуха от 0,26 до 4 м/с, температура воздуха устанавливается на 2–4 °С выше минимально допустимой, а при скорости более 4,0 м/с степень вредности условий труда увеличивается на одну степень. Ощущения работников, воспринимающих микроклимат как охлаждающий, свидетельствуют о том, что должные регламенты поддержания его параметров в шахте могут не соблюдаться.
Ограничения исследования. В исследовании проанализированы результаты анкетирования только на одном предприятия, в отдельном регионе, с определёнными условиями добычи угля и особенностями климата региона (2024 г.). Анкетирование продолжается на других шахтах Ростовской, Мурманской и Кемеровской областей, результаты планируется опубликовать в 2026 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённая работа показала высокую значимость анкетного опроса работников, занятых подземной добычей угля, поскольку условия их деятельности малодоступны для объективной оценки и тщательного проведения СОУТ и производственного контроля. Кроме того, учёт мнения работников об особенностях условий труда необходим при идентификации ВОПФ на рабочих местах при проведении СОУТ и оценке профессионального риска.
Полученные результаты представляют научный и практический интерес, так как содержат современные данные о реально идентифицируемых вредных производственных факторах на рабочих местах, выявленных различными профессиональными группами шахтёров. В исследовании обоснована важность персонифицированных общегигиенических и медико-биологических профилактических мероприятий для снижения устранимых профессиональных рисков, выбора приоритетных направлений превентивной работы.
Результаты исследования могут быть учтены при составлении программ оценки профессионального риска, СОУТ и производственного контроля и оценке их результатов, организации техпроцессов, разработке комплексов профилактических мероприятий, в том числе назначениях послесменной физиотерапевтической реабилитации, режимов труда и отдыха работников исследованных профессиональных групп, определения оптимальной продолжительности рабочей смены, недели, а также в целях совершенствования медицинских осмотров, формирования групп риска развития профессиональных и хронических неинфекционных заболеваний.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Е.В. Зибарев — концепция и дизайн исследования, разработка опросной формы, редактирование текста; С.М. Вострикова — сбор и анализ литературных источников, написание текста, редактирование статьи; О.К. Кравченко — разработка опросной формы, анализ данных, написание и редактирование текста; А.К. Бессонова — разработка опросной формы, сбор и анализ данных, написание и редактирование текста, С.М. Никонова — сбор и анализ данных, написание текста. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведения исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова» (протокол № 5 от 02.08.2023).
Согласие на публикацию. Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: E.V. Zibarev: conceptualization, methodology, writing—review & editing; S.M. Vostrikova: investigation, writing—original draft, writing—review & editing; O.K. Kravchenko: methodology, formal analysis, writing—review & editing; A.K. Bessonova: methodology, data curation, formal analysis, writing—original draft, writing – review & editing; S.M. Nikonova: data curation, formal analysis, writing—original draft. All the authors confirm that their authorship meets the ICMJE criteria (all authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication).
Ethics approval: The study was approved by the Local Ethics Committee of the Izmerov Research Institute of Occupational Health (Protocol No. 5 dated August 2, 2023).
Consent for publication: All participants provided written informed consent prior to inclusion in the study.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Приказ Минтруда России от 21.11.2023 г. № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению». Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311300048
2 Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 г. № 507 (ред. от 23.06.2022) «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах"». Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210103
3 Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности на 2019–2021 гг. (утв. Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности, Общероссийским отраслевым объединением работодателей угольной промышленности 18.01.2019); ред. от 23.12.2022, с изм. от 25.10.2024. Режим доступа: https://mintrud.gov.ru/docs/agreements/1298
4 П. 299 Приказа Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых"». Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384179
About the authors
Evgeny V. Zibarev
Scientific Research Institute of Occupational Health n.a. academician N.F. Izmerov
Author for correspondence.
Email: zibarev@irioh.ru
ORCID iD: 0000-0002-5983-3547
SPIN-code: 8367-0651
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor
Russian Federation, MoscowSvetlana M. Vostrikova
Scientific Research Institute of Occupational Health n.a. academician N.F. Izmerov
Email: vostrikovasveta@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1211-2926
SPIN-code: 9903-1505
Cand. Sci. (Economics)
Russian Federation, MoscowOlga K. Kravchenko
Scientific Research Institute of Occupational Health n.a. academician N.F. Izmerov
Email: kravchenko_ok@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-6509-2485
SPIN-code: 7296-5908
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowAnna K. Bessonova
Scientific Research Institute of Occupational Health n.a. academician N.F. Izmerov
Email: bessankonsta@gmail.com
ORCID iD: 0009-0009-7215-0095
SPIN-code: 8631-1898
Russian Federation, Moscow
Sofia M. Nikonova
All-Russian Research Institute of Labor
Email: sofianikonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0036-6603
SPIN-code: 1680-7261
Russian Federation, Moscow
References
- Filimonov ES, Korotenko OYu, Ulanova EV, Tapeshkina NV. Risk factors in the development of cardiovascular diseases in the coal industry workers. Hygiene and Sanitation. 2022;101(7):770–775. doi: 10.47470/0016-9900-2022-101-7-770-775 EDN: KCMCFO
- Golovkova NP, Kuzmina LP, Izmerova NI, et al. Priority directions for preserving the health of underground coal mining workers. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2023;63(12):795–801. doi: 10.31089/1026-9428-2023-63-12-795-801 EDN: NBZYJT
- Raudina SN, Semenikhin VA, Filimonov SN. Hygienic appreciation of the occupational conditions and the incidence of the hearing organ in the coal industry workers. Medicine in Kuzbass. 2020;19(4):64–69. doi: 10.24411/2687-0053-2020-10041 EDN: KINRWQ
- Zakharenkov VV, Kislitsyna VV. Hygienic evaluation of the working conditions and occupational risk for health of the workers of a coal mine. Advances in Current Natural Sciences. 2013;(11):14–18. EDN: RCHMAB
- Prokopenko LV, Chebotarev AG, Golovkova NP, et al. Working conditions, occupational morbidity, risks of violation health of drivers of mining machines in quarries. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2022;62(6):403–411. doi: 10.31089/1026-9428-2022-62-6-403-411 EDN: KZKSAT
- Kurenkova GV, Lemeshevskaya EP. Hygienic characteristics of working conditions in underground structures and their impact on the health of workers. Siberian Medical Journal (Irkutsk). 2015;136(5): 98–105. EDN: VMGIGB
- Syurin SA, Gorbanev SA. Regional features of occupational pathology in the Arctic zone of the Russian Federation (2007–2018). Health Care of the Russian Federation. 2021;65(3):251–260. doi: 10.47470/0044-197X-2021-65-3-251-260 EDN: MYYRND
- Partas OV, Lastkov DO. Hygienic justification of professional routes study and development risk of occupational pathology of coal mine workers. Vestnik of Hygiene and Epidemiology. 2022;26(4):358–364. EDN: YLUGVB
- Tuyenbayev AM, Forsyuk AA. Evaluation of professional and occupational health risk of miners. Mining Science and Technology (Russia). 2011;(9):83–88 EDN: MRMAPM
- Bukhtiyarov IV, Zibarev EV, Vostrikova SM, et al. The current state of working conditions in coal mines of Russia. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2023;63(6):348–358. doi: 10.31089/1026-9428-2023-63-6-348-358 EDN: VXAJAP
- Mokhnachuk II, Piktushanskaya TE, Bryleva MS, Betts KV. Workplace mortality at coal industry enterprises of Russia. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2023;63(2):88–93. doi: 10.31089/1026-9428-2023-63-2-88-93 EDN: QXWPPQ
- Golovkova NP, Chebotarev AG, Kaledina NO, Khelkovsky-Sergeyev NA. Assessment of working conditions, occupational risk, the state of occupational morbidity and occupational injuries of coal industry workers. Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal). 2011;(S7):9–40. EDN: ONBWKT
- Suvidova TA, Oleshchenko AM, Kislitsyna VV. The main directions of optimization of activity of Rospotrebnadzor directed on prevention of occupational diseases at miners. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2019;59(6):376–380. doi: 10.31089/1026-9428-2019-6-376-380 EDN: ESROWQ
- Fomin AI, Zhuikov AE, Grunskoy TV. Influence of working conditions on the function of external respiration in underground oil mine workers. Hygiene and Sanitation. 2022;101(4):406–411. doi: 10.47470/0016-9900-2022-101-4-406-411 EDN: SHJSYA
- Malyutina NN, Paramonova SV. The development risk assessing of hypertension in underground workers during the psychological support. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2022;62(8):513–519. doi: 10.31089/1026-9428-2022-62-8-513-519 EDN: NXQRUG
- Vlasova EM, Vorobyova AA, Alekseev VB, et al. Analysis of the prevalence of metabolic syndrome risk factors and the option of their correction among workers in underground mining. Hygiene and Sanitation. 2020;99(12):1418–1425. doi: 10.47470/0016-9900-2020-99-12-1418-1425 EDN: CSTYRS
- Strzemecka J, Goździewska M, Skrodziuk J, et al. Factors of work environment hazardous for health in opinions of employees working underground in the 'Bogdanka' coal mine. Ann Agric Environ Med. 2019;26(3):409–414. doi: 10.26444/aaem/106224
Supplementary files